После получения заявки мы позвоним вам, чтобы ответить на вопросы, и помочь определиться с программой
Представитель приемной комиссии перезвонит в течение часа в рабочее время
Отправляя свои контактные данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение email-сообщений от Высшей школы «Среда обучения»
Отправляя свои контактные данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение email-сообщений от Высшей школы «Среда обучения»
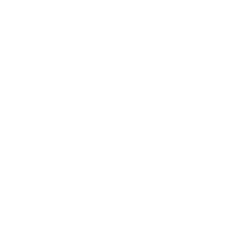
«Авангардная музеология — парадокс музея, выходящего за свои границы»
Арсений Жиляев размышляет о музее в интерпретации русских космистов, художников-авангардистов и о социалистической музейной деятельности 1920-х и 30-х
5 марта в рамках образовательного проекта «История Российского современного искусства в действующих лицах» художник и куратор Арсений Жиляев рассказал слушателям об идеях, оказавших влияние на формирование концепции музея в XX веке.
Авангардная музеология — это в некотором роде парадокс, потому что предполагает выход самого музея за свои собственные границы
«Прежде чем я начну вам рассказывать основное содержание моего выступления, несколько вводных замечаний про название и немножко по контексту, в котором мы сегодня будем говорить. Попытаюсь ответить на вопрос, почему, собственно, я взялся за авангардную музеологию и вообще что это такое.
Дело в том, что я не являюсь профессиональным теоретиком, исследователем, музеологом. Я художник, и авангардная музеология как термин, как некое явление или публикация возникла в виде результата моего художнического исследования и несет на себе отпечаток, так скажем, творческих, а не академических поисков. Поэтому прошу меня простить за возможный неакадемический стиль повествования и интерпретации, но, может быть, это привнесет в дискуссию экспериментальных выставочных проектов начала XX — конца XIX века что-то новое и неожиданное.
Почему, собственно, конструирование? Здесь можно услышать эхо поисков деятелей производственного искусства и радикального конструктивизма — течений очень важных для нашей сегодняшней беседы. Но дело еще и в том, что этот термин, авангардная музеология, до этой публикации не существовал и был искусственно, так ретро активно сконструирован мной для того, чтобы попытаться охватить в одном словосочетании явления, казалось бы, друг от друга максимально далекие.
Существуют такие три острова основных, о которых я буду сегодня говорить, которые складываются при определенном масштабировании в такой архипелаг авангардной музеологии. Это музеи в интерпретации философов, ассоциируемых с русским космизмом, это музеи в интерпретации художников исторического авангарда и то, что можно назвать марксисткой, главным образом, социологической линией музейной деятельности (это уже 20-е и 30-е прошлого века).
Еще один момент по поводу самого термина «авангардная музеология». Исходя из принятых на территории современного искусства дефиниций этот термин звучит как парадокс, потому что определение авангарда, его главное отличие от модернизма заключаются в том, что под авангардом понимается искусство, которое не просто претендует на художественную или визуальную инновацию. Авангардом может называться искусство, которое претендует на выход за границы искусства, под которыми, как правило, подразумеваются его институциональные границы. А главной институцией искусства всегда являлся музей. И таким образом, авангардная музеология — это в некотором роде парадокс, потому что предполагает выход самого музея за свои собственные границы.
Дело в том, что я не являюсь профессиональным теоретиком, исследователем, музеологом. Я художник, и авангардная музеология как термин, как некое явление или публикация возникла в виде результата моего художнического исследования и несет на себе отпечаток, так скажем, творческих, а не академических поисков. Поэтому прошу меня простить за возможный неакадемический стиль повествования и интерпретации, но, может быть, это привнесет в дискуссию экспериментальных выставочных проектов начала XX — конца XIX века что-то новое и неожиданное.
Почему, собственно, конструирование? Здесь можно услышать эхо поисков деятелей производственного искусства и радикального конструктивизма — течений очень важных для нашей сегодняшней беседы. Но дело еще и в том, что этот термин, авангардная музеология, до этой публикации не существовал и был искусственно, так ретро активно сконструирован мной для того, чтобы попытаться охватить в одном словосочетании явления, казалось бы, друг от друга максимально далекие.
Существуют такие три острова основных, о которых я буду сегодня говорить, которые складываются при определенном масштабировании в такой архипелаг авангардной музеологии. Это музеи в интерпретации философов, ассоциируемых с русским космизмом, это музеи в интерпретации художников исторического авангарда и то, что можно назвать марксисткой, главным образом, социологической линией музейной деятельности (это уже 20-е и 30-е прошлого века).
Еще один момент по поводу самого термина «авангардная музеология». Исходя из принятых на территории современного искусства дефиниций этот термин звучит как парадокс, потому что определение авангарда, его главное отличие от модернизма заключаются в том, что под авангардом понимается искусство, которое не просто претендует на художественную или визуальную инновацию. Авангардом может называться искусство, которое претендует на выход за границы искусства, под которыми, как правило, подразумеваются его институциональные границы. А главной институцией искусства всегда являлся музей. И таким образом, авангардная музеология — это в некотором роде парадокс, потому что предполагает выход самого музея за свои собственные границы.
Обычно, когда в одном предложении соединяются слова «авангард» и «музеология», особенно если речь идет о западной аудитории, то, как правило, все начинают думать о художнике Эле Лисицком и его коллаборации с Александром Дорнером. Это довольно знаменитая история, особенно для исследователей, которые занимаются историей экспериментальных выставок. Это отдельное, довольно бурно развивающееся направление истории искусства, которая трактуется не через отдельные произведения, а именно через выставки.
Так вот, в этой вот выставочной истории одним из самых таких радикальных примеров является «Абстрактный кабинет», который сделал Лисицкий по приглашению Александра Дорнера в конце 1920-х в Ганновере, в Ландесмузеум.
Так вот, в этой вот выставочной истории одним из самых таких радикальных примеров является «Абстрактный кабинет», который сделал Лисицкий по приглашению Александра Дорнера в конце 1920-х в Ганновере, в Ландесмузеум.
Александер Дорнер, Die Zwanziger Jahre in Hannover, 1962
(Alexander Dorner, 'The Twenties in Hanover', 1962), Courtesy the Museum of American Art, Berlin
(Alexander Dorner, 'The Twenties in Hanover', 1962), Courtesy the Museum of American Art, Berlin
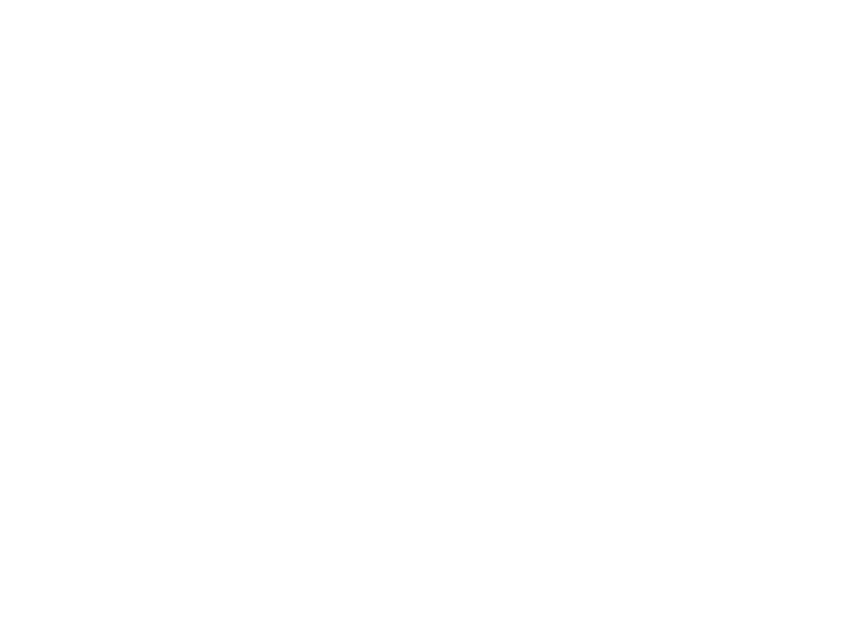
В двух словах, что это такое, «Абстрактный кабинет» — это инсталляция, которая была предназначена для серии атмосферных комнат, атмосферных, потому что Александр Дорнер во всех комнатах этого музея размещал искусство определенной эпохи. И вот «Абстрактный кабинет» должен был показывать искусство самое новое, искусство абстрактной живописи модернизма и авангарда.
Но тут есть одна важная деталь. В общем и целом «Абстрактный кабинет» Лисицкого западная история искусства или, если быть точнее, американская история искусства, которая после Второй мировой войны распространилась в Европу и после развала Советского Союза воцарилась в России, как правило, редуцирует к формальным инновациям, то есть интерпретирует его, скорее, как такую кураторскую или, если хотите, архитектурную инсталляцию, а не как инсталляцию художника или, как минимум, творческого деятеля, который уже не может быть однозначно атрибутирован как куратор или художник. Произведение искусства, которое уже радикальным образом отличается даже от самых смелых экспериментов искусства модернизма.
И это довольно важно. Почему? Потому что работы Лисицкого гораздо удобнее представлять как некий экстремум работы художника, выходящие за его рамки. Мол, вот художник иногда что-то курирует, но мы не должны думать о его кураторских практиках как о части художественного проекта. Скорее, это отдельный вид деятельности.
Если же мы так не думаем, если мы пытаемся понять, почему художник делает «Абстрактный кабинет» именно как художественное произведение, тогда мы должны открыть для себя все те материалы, которые связаны с трансформациями представлений об искусстве и о музее, которые были спровоцированы революцией. А Лисицкий как раз таки воспринимал «Абстрактный кабинет» как одно из своих наивысших художнических достижений. Об этом он говорит в своей автобиографии, написанной незадолго до смерти.
Мы вернемся к обсуждению разницы между инсталляцией художника и инсталляцией куратора чуть позже. А пока давайте перейдем к деятелям исторического авангарда, которые были ответственны за негативную интерпретацию музейной институции и попробуем разобраться, чем она была обусловлена.
Но тут есть одна важная деталь. В общем и целом «Абстрактный кабинет» Лисицкого западная история искусства или, если быть точнее, американская история искусства, которая после Второй мировой войны распространилась в Европу и после развала Советского Союза воцарилась в России, как правило, редуцирует к формальным инновациям, то есть интерпретирует его, скорее, как такую кураторскую или, если хотите, архитектурную инсталляцию, а не как инсталляцию художника или, как минимум, творческого деятеля, который уже не может быть однозначно атрибутирован как куратор или художник. Произведение искусства, которое уже радикальным образом отличается даже от самых смелых экспериментов искусства модернизма.
И это довольно важно. Почему? Потому что работы Лисицкого гораздо удобнее представлять как некий экстремум работы художника, выходящие за его рамки. Мол, вот художник иногда что-то курирует, но мы не должны думать о его кураторских практиках как о части художественного проекта. Скорее, это отдельный вид деятельности.
Если же мы так не думаем, если мы пытаемся понять, почему художник делает «Абстрактный кабинет» именно как художественное произведение, тогда мы должны открыть для себя все те материалы, которые связаны с трансформациями представлений об искусстве и о музее, которые были спровоцированы революцией. А Лисицкий как раз таки воспринимал «Абстрактный кабинет» как одно из своих наивысших художнических достижений. Об этом он говорит в своей автобиографии, написанной незадолго до смерти.
Мы вернемся к обсуждению разницы между инсталляцией художника и инсталляцией куратора чуть позже. А пока давайте перейдем к деятелям исторического авангарда, которые были ответственны за негативную интерпретацию музейной институции и попробуем разобраться, чем она была обусловлена.
«Современность изобрела крематорий для мертвых, а каждый мертвый живее слабого написанного портрета. Сжегши мертвеца, получаем 1 г. порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысячи кладбищ»
— Казимир Малевич
— Казимир Малевич
Всем известно, Казимир Малевич действительно музеи не жаловал. Вот здесь приведена цитата из его текста о музее, опубликованного в газете «Искусство коммуны», газете, в которой концентрировались главные футуристические, главные авангардистские силы. И этот текст вышел, предваряя первую конференцию музейную, где люди искусства собрались впервые поднять вопрос о том, что же нам теперь делать с музеями после революции.
И, собственно, Малевич довольно-таки категоричен. Вот я его цитирую: «Современность изобрела крематорий для мертвых, а каждый мертвый живее слабого написанного портрета. Сжегши мертвеца, получаем 1 г. порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысячи кладбищ». Довольно дико для слуха человека, далекого от художественной борьбы первой трети XX века, но я попробую вам расшифровать.
И, собственно, Малевич довольно-таки категоричен. Вот я его цитирую: «Современность изобрела крематорий для мертвых, а каждый мертвый живее слабого написанного портрета. Сжегши мертвеца, получаем 1 г. порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысячи кладбищ». Довольно дико для слуха человека, далекого от художественной борьбы первой трети XX века, но я попробую вам расшифровать.
Инсталяционный вид Beyond the Globe, 8я триеннале современного искусства — U3, Любляна, куратор Борис Гройс, 2016. Фото: Наталья Никитина
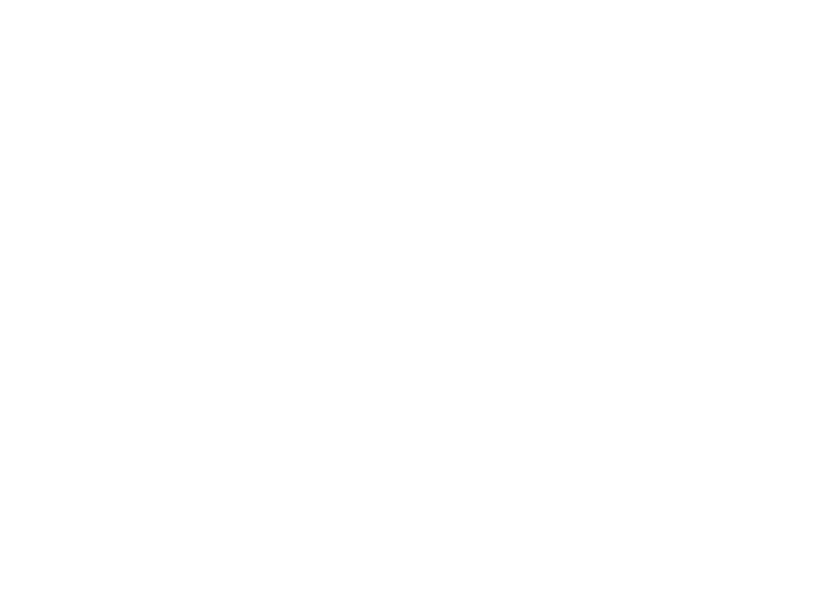
Тут может быть несколько вариантов интерпретации. Например, Борис Гройс трактует этот текст в том ключе, что Малевич был таким радикальным материалистом и считал, что вселенная, есть поток жизни, наш мир может сам разобраться, что для него важно, а что неважно, и такое испытание огнем, испытание радикальной авангардной деструкцией и редукцией сохраняет самое ценное, то есть какой-то неуничтожимый, несгораемый остаток искусства, за который можно не беспокоиться, и этот остаток является центральным нервом, ради которого все мероприятие творческой жизни и затевается.
С другой стороны, можно интерпретировать эти рассуждения о порошке и аптечной полке в контексте образовательной деятельности Малевича. Возможно, вы слышали, если когда бы то ни было общались с деятелями современного искусства или, может быть, даже московскими концептуалистами, такой вот анекдот про то, что как минимум до некоторых пор, до какого-то момента, когда еще не сменилась философская мода, кураторы и художники шутили, что хорошее произведение искусства можно пересказать по телефону. На него даже не обязательно смотреть. Хорошее произведение искусства — это всегда какой-то конкретный, гениально простой жест, который может быть описан словесно.
И мне кажется, что Малевич здесь использует авангардную деструкцию как метафору педагогического усилия. Он говорит: каждый художник в принципе может быть сведен до набора определенных ключевых жестов, которые он/она совершает, то есть каждый художник может быть схематизирован и встроен в определенную линию развития искусства. И это самое главное. Все остальное — это хлам. Мы можем об этом не думать, оставить от каждого по его заслугам, с которыми мы будем работать в дальнейшем.
С другой стороны, можно интерпретировать эти рассуждения о порошке и аптечной полке в контексте образовательной деятельности Малевича. Возможно, вы слышали, если когда бы то ни было общались с деятелями современного искусства или, может быть, даже московскими концептуалистами, такой вот анекдот про то, что как минимум до некоторых пор, до какого-то момента, когда еще не сменилась философская мода, кураторы и художники шутили, что хорошее произведение искусства можно пересказать по телефону. На него даже не обязательно смотреть. Хорошее произведение искусства — это всегда какой-то конкретный, гениально простой жест, который может быть описан словесно.
И мне кажется, что Малевич здесь использует авангардную деструкцию как метафору педагогического усилия. Он говорит: каждый художник в принципе может быть сведен до набора определенных ключевых жестов, которые он/она совершает, то есть каждый художник может быть схематизирован и встроен в определенную линию развития искусства. И это самое главное. Все остальное — это хлам. Мы можем об этом не думать, оставить от каждого по его заслугам, с которыми мы будем работать в дальнейшем.
Художественные музейные коллекции — это архив, который может быть использован каждым желающим
Важно отметить, что эта радикальная позиция Малевича была близка многим художникам, теоретикам искусства, кураторам. Довольно категорично на тему будущего музея высказывался Николай Пунин, очень важная фигура для истории авангарда, который считал, что если уж музей должен в каком-то виде продолжать существовать после революции, то он должен быть радикально трансформирован, а в идеале он должен быть взят под контроль людьми, которые создают новую пролетарскую культуру, новое искусство.
Пунин Николай Николаевич (1888 - 1953) — искусствовед, художественный критик, музейный работник. В 1913 — 1934 годах был сотрудником Русского музея. В 1918 - 1919 годах работал в Отделе изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения. Был близок к художникам- авангардистам. Принимал активное участие в создании газеты «Искусство коммуны», бывшей рупором советского футуристического искусства. В 1927 году создал в Русском музее экспозицию новейших течений в искусстве. Муж Анны Ахматовой (1923−1938).
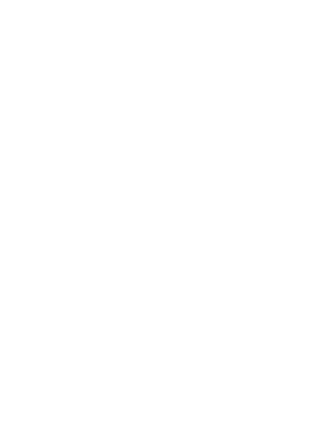
Я привожу цитату из публикации по музейному вопросу, которая, скорее всего, принадлежит Пунину, как раз из той же газеты «Искусство коммуны»: «Художественные музейные коллекции — это архив, который может быть использован каждым желающим. Развески и перевески пусть, не останавливаясь, следуют друг за другом. В идеале музей должен быть весь на шарнирах, должно быть в корне пресечено стремление ко всякого рода неподвижным иконостасам».
И он продолжает: «Современный музей — это ученый институт. Выводить современные европейские музеи из кунсткамер и репо [репозиториев] всякого рода — это все равно что выводить современное государство непосредственно из феодализма. Когда-то музеи были репо, но уже давно они приобрели иной характер, характер ученого, вспомогательного аппарата».
И он продолжает: «Современный музей — это ученый институт. Выводить современные европейские музеи из кунсткамер и репо [репозиториев] всякого рода — это все равно что выводить современное государство непосредственно из феодализма. Когда-то музеи были репо, но уже давно они приобрели иной характер, характер ученого, вспомогательного аппарата».
Если говорить об Осипе Брике, то он занимает близкую позицию и тоже говорит о том, что музей должен быть трансформирован из статичного храма, в котором охраняется некоторая недоступная пролетарским массам и вообще всяческим угнетенным высокая культура, в открытую всем лабораторию.
Если вы знаете историю жизни Малевича, то он от идеи радикальной деструкции постепенно как раз приходит к идее лаборатории, такого исследовательского института, где искусство выступает в виде учебных образцов или же неких ресурсов знаний, что, безусловно, сильно отличается от классической версии дореволюционного музея, музея до XX века.
Но здесь еще одно отступление. Почему, собственно, художники исторического авангарда и интеллектуалы, ассоциируемые с историческим авангардом, в принципе рассматривали музей как институцию, которую необходимо либо уничтожить либо радикальным образом трансформировать.
Если вы знаете историю жизни Малевича, то он от идеи радикальной деструкции постепенно как раз приходит к идее лаборатории, такого исследовательского института, где искусство выступает в виде учебных образцов или же неких ресурсов знаний, что, безусловно, сильно отличается от классической версии дореволюционного музея, музея до XX века.
Но здесь еще одно отступление. Почему, собственно, художники исторического авангарда и интеллектуалы, ассоциируемые с историческим авангардом, в принципе рассматривали музей как институцию, которую необходимо либо уничтожить либо радикальным образом трансформировать.
Пунин Николай Николаевич (1888 - 1953) — искусствовед, художественный критик, музейный работник. В 1913 — 1934 годах был сотрудником Русского музея. В 1918 - 1919 годах работал в Отделе изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения. Был близок к художникам- авангардистам. Принимал активное участие в создании газеты «Искусство коммуны», бывшей рупором советского футуристического искусства. В 1927 году создал в Русском музее экспозицию новейших течений в искусстве. Муж Анны Ахматовой (1923−1938).
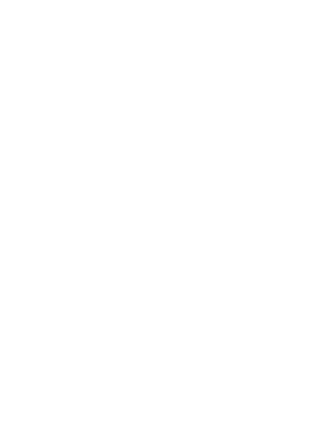
Здесь я отсылаю вас к деятельности такого теоретика, Бориса Арватова. Вот буквально недавно его книга была переиздана чуть ли не впервые с 20-х годов, «Искусство и производство», в издательстве «V-A-C press». Это имя, которое практически не звучит ни в актуальном художественном контексте, ни в каких-то более широких контекстах, хотя деятельность Бориса Арватова чрезвычайно важна. В чем ее суть?
Борис Арватов ответственен за одну из самых радикальных интерпретаций художнического творчества, которая легла в основу производственного искусства и радикальной версии конструктивизма. Это была интерпретация марксизма, которая, безусловно, была пропущена через фильтр влияния Александра Богданова (о нем чуть попозже мы поговорим) и, возможно, опосредованно через него же коснулась дебатов о синтетическом искусстве, развиваемых мыслителями русского космизма.
Борис Арватов ответственен за одну из самых радикальных интерпретаций художнического творчества, которая легла в основу производственного искусства и радикальной версии конструктивизма. Это была интерпретация марксизма, которая, безусловно, была пропущена через фильтр влияния Александра Богданова (о нем чуть попозже мы поговорим) и, возможно, опосредованно через него же коснулась дебатов о синтетическом искусстве, развиваемых мыслителями русского космизма.
Борис Арватов (1896−1940) был активным теоретиком и идеологом Пролеткульта и производственного искусства. С 1922 года Арватов был одним из создателей и активных участников Левого фронта искусств (ЛЕФ). Разработал «формально-социологический» метод литературной критики. С конца 1920-х годов, из-за травмы нерва, вызванной контузией на фронте, Арватов практически прекратил заниматься литературной деятельностью. В 1940 году покончил жизнь самоубийством.
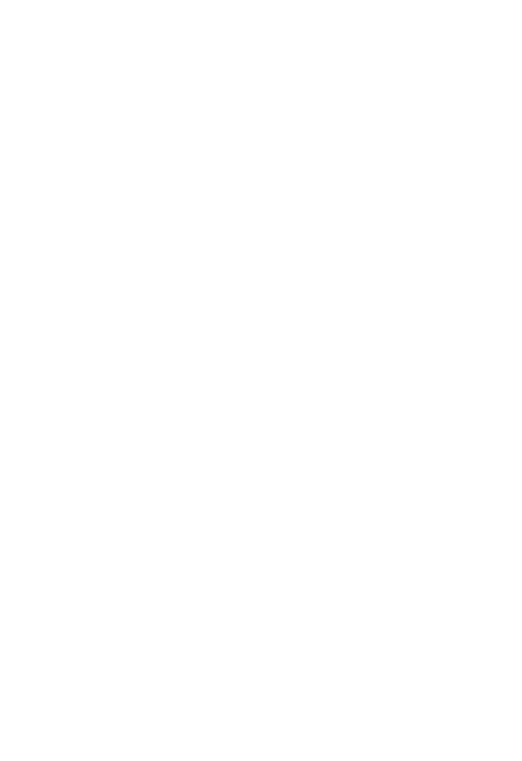
Искусство — это всегда некое гетто, где концентрируются все освободительные проекты, связанные с возможным будущим человечества
Что такое искусство в его марксисткой версии, предложенной Арватовым? Искусство — это всегда некое гетто, что особенно актуально, звучит, когда мы находимся в музее, связанном с историей еврейского народа. Это гетто, где концентрируются все освободительные проекты, связанные с возможным будущим человечества. Почему это так? Потому что мы находимся внутри капитализма, и наша экономическая и политическая структура не позволяет нигде еще этим визионерским проектам существовать. Вот есть территория искусства, там мы в безопасности можем говорить о потенциальном будущем, о справедливости, о бессмертии, социальном равенстве и так далее. Но как только искусство границы своих институций переступает, оно становится опасным, оно становится преследуемым и так далее. Так вот, после пролетарской революции получается интересная ситуация, что главный социальный конфликт — по марксизму, это классовая борьба, которая питает во многом творчество художников, — он должен исчезнуть. Ведь горизонт марксистского проекта — это бесклассовое общество, в котором в пределе исчезает и государство. Соответственно, исчезает сама почва (травмы, связанные с социальной несправедливостью), на которой существует искусство, по крайней мере в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Исчезает сама дефиниция художника. Маркс говорит о том, что в будущем коммунистическом обществе мы сможем освободиться от навязчивого требования представлять себя в качестве выгодного товара на рынке труда.
Сегодня для того, чтобы быть успешными, нам важно выстраивать свою трудовую идентичность
Сегодня, например, для того, чтобы быть успешными, нам важно, даже если мы не художники, выстраивать свою трудовую идентичность. Даже у нехудожников есть CV, в котором видно его или ее развитие. Видно, что ты всегда находишься в углубляющейся специализации, ты всегда должен расширять свои знания, всегда должен быть лучшим в какой-то области. Если это не так, если ты как-то уворачиваешься от требований рынка труда, часто меняешь свое мнение, то тебе гораздо труднее выдержать конкуренцию в том числе конкуренцию внутри рынка искусства.
Так вот, после революции это экономическое давление должно исчезнуть, потому что производство будет организовано разумным образом, и каждый желающий может быть с утра художником, вечером электриком, в обед заниматься беговыми упражнениями. В общем, специализация исчезает, и вместе с ней, по идее, исчезает и дефиниция художника. Собственно, отсюда возникает идея производственного искусства и радикального конструктивизма. Если пролетарская революция произошла, значит, художник больше не может заниматься тем, чем он занимался прежде: он не может больше заниматься станковым искусством, не может просто рисовать картины. Художник должен пойти на завод и в пределе, согласно Арватову, заниматься творчеством жизни, где исчезают различия между творческим и механическим трудом. То есть художник и рабочий — это должно быть какое-то одно лицо, такой вот инженер-универсал.
Понятно, что здесь стоит оговориться, Арватов идет на риск. Он понимает, что постреволюционные 20-е далеки от идеального коммунистического общества, описываемого Марксом. Понятно, что в 20-е годы продолжается гражданская война, никуда не исчезает классовое деление, но теоретиком совершается попытка радикализации творческого процесса, которая во многом повторяет жесты большевиков и Ленина, которые тоже делают революцию в стране, где казалось бы, согласно теории Маркса, никак не может претендовать на успешность.
Отдельный разговор о влиянии на Арватова космизма и отдельный разговор может быть о том, собственно, насколько в принципе легитимна такая трактовка марксизма, потому что, если мы внимательно пытаемся реконструировать эстетику Маркса, то говорить о радикальном разрыве с искусством прошлого и преодоелении границы между искусством и жизнью мы не можем. Этому посвящает свою жизнь важный советский и марксистский философ Михаил Лившиц. Больше о нём вы можете вскоре узнать в музее «Гараж», где будет выставка, подготовленная Дмитрием Гутовым и Давидом Риффом, как раз о наследии Михаила Лившица.
И Михаил Лившиц — важная фигура для авангардной музеологии. Это как раз тот человек, после которого часть ее экспериментов завершается. Михаил Лившиц восстанавливает более традиционную экспозицию, «нормализует» эстетику музейного показа и в целом искусства. Хотя то, что возникает в виде социалистического реализма, конечно, очень сильно отличается от того, что этот человек хотел бы видеть в качестве высокого реализма свободного коммунистического общества. Но здесь нужен отдельный разговор.
Так вот, после революции это экономическое давление должно исчезнуть, потому что производство будет организовано разумным образом, и каждый желающий может быть с утра художником, вечером электриком, в обед заниматься беговыми упражнениями. В общем, специализация исчезает, и вместе с ней, по идее, исчезает и дефиниция художника. Собственно, отсюда возникает идея производственного искусства и радикального конструктивизма. Если пролетарская революция произошла, значит, художник больше не может заниматься тем, чем он занимался прежде: он не может больше заниматься станковым искусством, не может просто рисовать картины. Художник должен пойти на завод и в пределе, согласно Арватову, заниматься творчеством жизни, где исчезают различия между творческим и механическим трудом. То есть художник и рабочий — это должно быть какое-то одно лицо, такой вот инженер-универсал.
Понятно, что здесь стоит оговориться, Арватов идет на риск. Он понимает, что постреволюционные 20-е далеки от идеального коммунистического общества, описываемого Марксом. Понятно, что в 20-е годы продолжается гражданская война, никуда не исчезает классовое деление, но теоретиком совершается попытка радикализации творческого процесса, которая во многом повторяет жесты большевиков и Ленина, которые тоже делают революцию в стране, где казалось бы, согласно теории Маркса, никак не может претендовать на успешность.
Отдельный разговор о влиянии на Арватова космизма и отдельный разговор может быть о том, собственно, насколько в принципе легитимна такая трактовка марксизма, потому что, если мы внимательно пытаемся реконструировать эстетику Маркса, то говорить о радикальном разрыве с искусством прошлого и преодоелении границы между искусством и жизнью мы не можем. Этому посвящает свою жизнь важный советский и марксистский философ Михаил Лившиц. Больше о нём вы можете вскоре узнать в музее «Гараж», где будет выставка, подготовленная Дмитрием Гутовым и Давидом Риффом, как раз о наследии Михаила Лившица.
И Михаил Лившиц — важная фигура для авангардной музеологии. Это как раз тот человек, после которого часть ее экспериментов завершается. Михаил Лившиц восстанавливает более традиционную экспозицию, «нормализует» эстетику музейного показа и в целом искусства. Хотя то, что возникает в виде социалистического реализма, конечно, очень сильно отличается от того, что этот человек хотел бы видеть в качестве высокого реализма свободного коммунистического общества. Но здесь нужен отдельный разговор.
Здесь я отсылаю вас к деятельности такого теоретика, Бориса Арватова. Вот буквально недавно его книга была переиздана чуть ли не впервые с 20-х годов, «Искусство и производство», в издательстве «V-A-C press». Это имя, которое практически не звучит ни в актуальном художественном контексте, ни в каких-то более широких контекстах, хотя деятельность Бориса Арватова чрезвычайно важна. В чем ее суть?
Борис Арватов ответственен за одну из самых радикальных интерпретаций художнического творчества, которая легла в основу производственного искусства и радикальной версии конструктивизма. Это была интерпретация марксизма, которая, безусловно, была пропущена через фильтр влияния Александра Богданова (о нем чуть попозже мы поговорим) и, возможно, опосредованно через него же коснулась дебатов о синтетическом искусстве, развиваемых мыслителями русского космизма.
Борис Арватов ответственен за одну из самых радикальных интерпретаций художнического творчества, которая легла в основу производственного искусства и радикальной версии конструктивизма. Это была интерпретация марксизма, которая, безусловно, была пропущена через фильтр влияния Александра Богданова (о нем чуть попозже мы поговорим) и, возможно, опосредованно через него же коснулась дебатов о синтетическом искусстве, развиваемых мыслителями русского космизма.
Богданов Александр Александрович (1873−1928) — революционный деятель, философ, социолог, экономист, писатель и естествоиспытатель. Активно занимался медицинской практикой и научной деятельностью. Был основателем и директором первого в мире Института переливания крови. Написал роман «Красная звезда», ставший первой русской марксистской социалистической утопией.
Aleksandr Bogdanov, 1904, from thecharnelhouse.org
Aleksandr Bogdanov, 1904, from thecharnelhouse.org

Вот это знаменитая фотография Богданова, который играет в шахматы с Лениным, на фоне Максима Горького. Это такая большевистская школа на Капри. Очень вам рекомендую внимательнее присмотреться к Богданову. Его философия сейчас становится все более и более значимой.
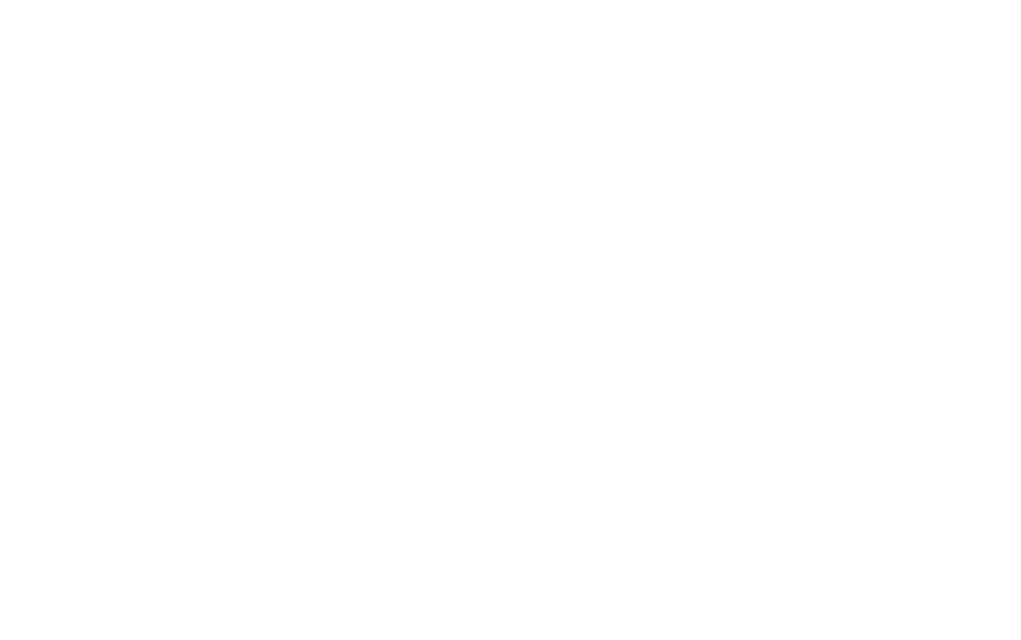
«В музее показываются отдельные примеры искусства, способствующие воспитанию новых поколений»
— Александр Богданов
— Александр Богданов
Так вот, Богданов пишет книжку «Красная звезда», где тоже описывается, что в будущем музеи после революции сохранятся, но будут сильно трансформированы. Цитирую: «Мне казалось, что в развитом коммунистическом обществе не будет музеев!» — удивленно восклицает герой книги Богданова, попавший на Марс в гости к высокоразвитой коммунистической цивилизации. Но оказывается, что музеи сохраняются, правда, их роль, собственно, трансформируется примерно в том же ключе, в котором эти трансформации будут описываться Малевичем, Пуниным и Осипом Бриком.
Какая же роль отводится музею после революции? Цитата: «В музее показываются отдельные примеры искусства, способствующие воспитанию новых поколений». То есть опять мы видим пример трансформации музея в некую лабораторию, в некую педагогическую институцию, которая призвана не просто сохранить искусство прошлого, а быть частью общего производства жизни.
Какая же роль отводится музею после революции? Цитата: «В музее показываются отдельные примеры искусства, способствующие воспитанию новых поколений». То есть опять мы видим пример трансформации музея в некую лабораторию, в некую педагогическую институцию, которая призвана не просто сохранить искусство прошлого, а быть частью общего производства жизни.
Обложка книги А. Богданова «Красная звезда», 1908
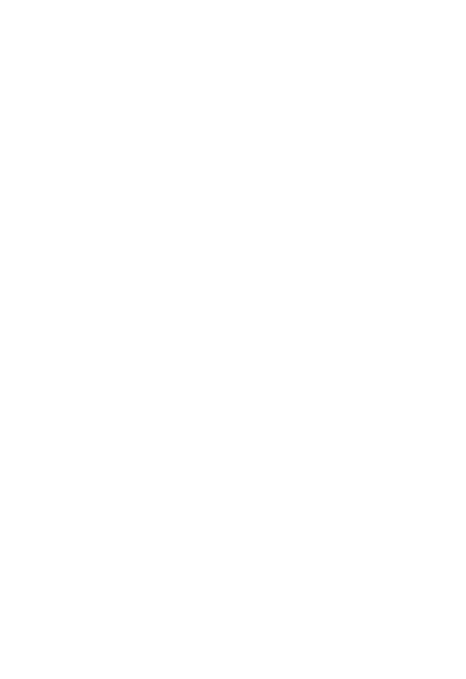
В дальнейшем Богданов, который начинает как революционер, как большевик и один из ближайших соратников Ленина, подвергается остракизму. Он изгоняется из партии и сам тоже, испугавшись того, какие формы принимает революционная борьба, постепенно отдаляется от политической жизни и начинает заниматься культурной активностью, в частности, организует Пролеткульт, важное протоавангардистское течение, объединявшее непрофессиональных поэтов, художников, режиссеров. В частности, Эйзенштейн был близок к пролеткульту, Сергей Третьяков, в общем, очень серьезные деятели авангарда.
И в конце жизни Богданов еще открывает, уже после революции, Институт по переливанию крови. Идея была в том, что переливание крови от женщины к мужчине, от старого человека к молодому человеку будет способствовать омоложению и возникновению некоего нового человека, не только психически, социально, классово измененного революцией, но в том числе и на биологическом уровне.
Так вот, через эти пролеткультовские и такие космистские интуиции в том числе просачиваются отдельные концепции новой музеологии. Мне удалось найти информацию про так называемые «выставки-лавины». Это выставки, которые делались на производстве по максимально открытому принципу, когда все желающие могли просто принести свои работы и могли размещать их в пространстве, отводимом под экспозицию. Радикальное открытие прежде замкнутого в себе музея, конечно же, до революции было бы невозможным, и во многом здесь мы слышим как раз вот этот вот отголосок арватовской теории или того, что он называл музеем на шарнирах.
Или же была концепция музея-газеты, музея, который каждый день должен изменять свою экспозицию в зависимости от того, какие сегодня происшествия и какие новости, то есть такой вот протоинтернет.
Но это все были, так скажем, непрофессиональные варианты музея на шарнирах. То, что можно назвать профессиональным вариантом, возникнет в 1919 году в виде Музея живописной культуры.
Я вам приведу цитату из путеводителя по московским музеям 1927 года, который описывает, чем, собственно, Музей живописной культуры занимался: «Музей живописной культуры ставит себе целью демонстрировать основные проблемы, выдвинутые в новой русской живописи». В соответствии с этой теоретической предпосылкой, весь экспонируемый материал распределяется на две группы: объемную и плоскостную. Собственно, о чем тут идет речь? Музей живописной культуры — это мечта авангардистов, которые захватывают власть в музейной институции и начинают трансформировать и пропагандировать искусство самих себя.
И в конце жизни Богданов еще открывает, уже после революции, Институт по переливанию крови. Идея была в том, что переливание крови от женщины к мужчине, от старого человека к молодому человеку будет способствовать омоложению и возникновению некоего нового человека, не только психически, социально, классово измененного революцией, но в том числе и на биологическом уровне.
Так вот, через эти пролеткультовские и такие космистские интуиции в том числе просачиваются отдельные концепции новой музеологии. Мне удалось найти информацию про так называемые «выставки-лавины». Это выставки, которые делались на производстве по максимально открытому принципу, когда все желающие могли просто принести свои работы и могли размещать их в пространстве, отводимом под экспозицию. Радикальное открытие прежде замкнутого в себе музея, конечно же, до революции было бы невозможным, и во многом здесь мы слышим как раз вот этот вот отголосок арватовской теории или того, что он называл музеем на шарнирах.
Или же была концепция музея-газеты, музея, который каждый день должен изменять свою экспозицию в зависимости от того, какие сегодня происшествия и какие новости, то есть такой вот протоинтернет.
Но это все были, так скажем, непрофессиональные варианты музея на шарнирах. То, что можно назвать профессиональным вариантом, возникнет в 1919 году в виде Музея живописной культуры.
Я вам приведу цитату из путеводителя по московским музеям 1927 года, который описывает, чем, собственно, Музей живописной культуры занимался: «Музей живописной культуры ставит себе целью демонстрировать основные проблемы, выдвинутые в новой русской живописи». В соответствии с этой теоретической предпосылкой, весь экспонируемый материал распределяется на две группы: объемную и плоскостную. Собственно, о чем тут идет речь? Музей живописной культуры — это мечта авангардистов, которые захватывают власть в музейной институции и начинают трансформировать и пропагандировать искусство самих себя.
Я вам приведу еще одну цитату, из Александра Родченко, важного деятеля радикального конструктивизма, который занимал должность директора музейного бюро: «Прежде всего помещение и стена принимаются как техническое средство показать картину. При такой постановке вопроса отпадает вопрос об экономии или утилизации данной стены. Сплошное покрытие стен, безусловно, отрицается. Стена не играет более самодовлеющей роли, и произведение не приспособляется к стене, произведение становится активным действующим лицом».
Как вы можете, наверное, себе представить до модернизма и авангарда, главной формой экспонирования материала в музее была шпалерная, в несколько рядов, развеска, которая не оставляет свободного пространства, не оставляет каких-то полей вокруг произведения искусства, а, скорее, исходит из того, что необходимо просто покрыть как можно более экономно все пространство стены. Родченко предлагает радикально иной вариант.
Вообще считается, что впервые более-менее понятную нам сегодня развеску начинает применять как раз Музей живописной культуры и впоследствии американская MoMA и Альфред Барр, который во многом ответственен за возникновение white cube. Это когда белые стены и на белых стенах висят красивые модернистские абстрактные произведения искусства, не мешая друг другу.
Как вы можете, наверное, себе представить до модернизма и авангарда, главной формой экспонирования материала в музее была шпалерная, в несколько рядов, развеска, которая не оставляет свободного пространства, не оставляет каких-то полей вокруг произведения искусства, а, скорее, исходит из того, что необходимо просто покрыть как можно более экономно все пространство стены. Родченко предлагает радикально иной вариант.
Вообще считается, что впервые более-менее понятную нам сегодня развеску начинает применять как раз Музей живописной культуры и впоследствии американская MoMA и Альфред Барр, который во многом ответственен за возникновение white cube. Это когда белые стены и на белых стенах висят красивые модернистские абстрактные произведения искусства, не мешая друг другу.
Родченко Александр в производственном костюме собственного дизайна, 1922, from www.learn.columbia.edu
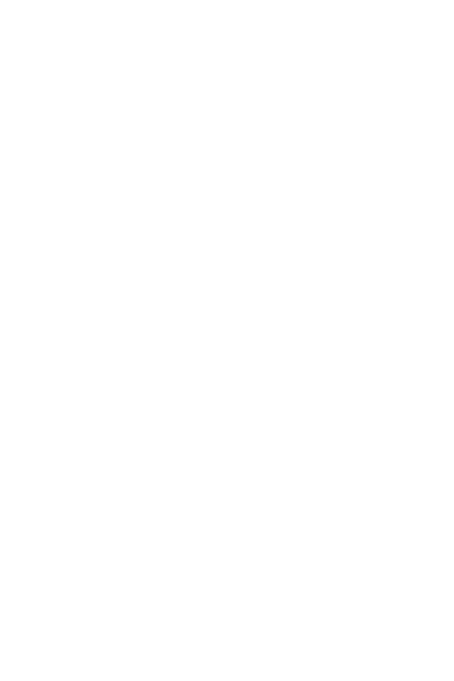
Большая часть музеев, о которых мы можем говорить в контексте исторического авангарда, это как раз вот такие музеи авангардизма. Институции, захваченные художниками, которые пропагандируют новое, правильное пролетарское искусство, / собственно искусство тех самых художников, которое они захватили
Однако в случае с Музеем живописной культуры речь шла о создании музея, отвечающего профессиональным требованиям художников-новаторов, то есть о создании музея авангардизма, а не авангардного музея.
В чем заключались эти требования? Требования, которые мало чем отличаются, наверное, от желаний каждого творческого деятеля: как можно большая экспансия своего творческого видения, желательно, подкрепленная историей искусства. Поэтому, на мой вкус, большая часть музеев, о которых мы можем говорить в контексте исторического авангарда, это как раз вот такие музеи авангардизма. Институции, захваченные художниками, которые пропагандируют новое, правильное пролетарское искусство, / собственно искусство тех самых художников, которое они захватили.
Безусловно, они придумывают способ, каким образом можно своё искусство, более качественно показывать, и, безусловно, они придумывают способ, как можно его объяснить народным массам так, чтобы они поняли, почему именно это искусство нужно закупать, почему именно это искусство должно остаться в истории.
Да, здесь есть существенная трансформация и развитие экспозиционных практик по сравнению с тем, что было прежде, до революции, но, на мой вкус, мы не можем здесь говорить о серьезной трансформации самой концепции музея. Скорее, это вот такое, то, что в искусстве называется artist-run space, у которого есть совершенно четкие границы, плюс-минус совпадающие с размером творческого эго той художественной группы, которая этим artist-run space владеет.
В Советском Союзе, в силу логики его развития, такие artist-run space вроде Музея живописной культуры долго существовать не могли. Но, как мне кажется, что по крайней мере формальным эквивалентом Музея модернизма в Советском Союзе после 20−30-х был Музей революции, но это отдельная история, я об этом расскажу чуть позже, хотя, повторюсь, только формальным, потому что с концептуальной точки зрения, конечно же, Музей революции очень сильно от Музея модернизма отличается.
Мы постепенно переходим от музеев, связанных с историческим авангардом, к марксисткой музеологии 20−30-х. К этому времени в Советском Союзе сформировался определенный консенсус по поводу того, чем должен быть музей в обществе, стремящемся к коммунизму. Большая часть идей с ним связанных были озвучены в рамках Первого всероссийского музейного съезда, а также появились на страницах официального органа советских музеологов, журнала «Советский музей».
Основным методом работы музея в этот период должен был стать диалектический материализм. В самом общем виде это означало, что, в отличие от буржуазных музеев прошлого, советские институции подобного рода должны подходить к естественной истории, социальной истории, сфере культуры не как к отчужденным и враждебным по отношению к человеку сферам, но как к продуктам его сознательных усилий. Столь ненавидимая музеологами Кунсткамера, то есть вульгарно материалистический или же идеалистический музей, должна была смениться музеем как неотъемлемой частью творческой трансформации жизни, то есть, собственно, то, о чем мы говорили в первой трети моего выступления.
Пассивность, нейтральность, псевдопозитивистская или же метафизическая позиция музея в отношении исследуемых явлений уходили в прошлое. Политическая ангажированность, партийность, непосредственная включенность в производственные процессы и в продолжающуюся классовую борьбу, критика идеологических предрассудков, критика фетишизма — вот те новые ориентиры, которые поднимались на флаг советскими музеологами 20−30-х годов.
Несколько примеров того, как же это выглядело. Понятно, что здесь музейная деятельность слабо отличалась от общих процессов, которые происходили в Советском Союзе. А если огрублять, то их можно сводить к тому, что была директива — давайте перестроим нашу творческую деятельность в соответствии с новой научной философией диалектического материализма. Но каким образом это нужно было сделать, было непонятно. Поэтому на короткий промежуток времени возникает много разных, порой спорящих друг с другом и довольно странных видений музейной деятельности.
Например, один из главных редакторов «Советского музея» философ-марксист Луппол предложил разделить музейную сеть на два типа: на музеи-базисы (экономические музеи) и музеи-надстройки (музеи быта, художественные музеи и прочее). Это такая вот марксистская терминология. То есть музеи-базисы, базис — это то, что относится к экономическим производственным отношениям, а надстройка — то, что относится к сфере идеологии, искусство в какой-то степени тоже сюда относится.
В чем заключались эти требования? Требования, которые мало чем отличаются, наверное, от желаний каждого творческого деятеля: как можно большая экспансия своего творческого видения, желательно, подкрепленная историей искусства. Поэтому, на мой вкус, большая часть музеев, о которых мы можем говорить в контексте исторического авангарда, это как раз вот такие музеи авангардизма. Институции, захваченные художниками, которые пропагандируют новое, правильное пролетарское искусство, / собственно искусство тех самых художников, которое они захватили.
Безусловно, они придумывают способ, каким образом можно своё искусство, более качественно показывать, и, безусловно, они придумывают способ, как можно его объяснить народным массам так, чтобы они поняли, почему именно это искусство нужно закупать, почему именно это искусство должно остаться в истории.
Да, здесь есть существенная трансформация и развитие экспозиционных практик по сравнению с тем, что было прежде, до революции, но, на мой вкус, мы не можем здесь говорить о серьезной трансформации самой концепции музея. Скорее, это вот такое, то, что в искусстве называется artist-run space, у которого есть совершенно четкие границы, плюс-минус совпадающие с размером творческого эго той художественной группы, которая этим artist-run space владеет.
В Советском Союзе, в силу логики его развития, такие artist-run space вроде Музея живописной культуры долго существовать не могли. Но, как мне кажется, что по крайней мере формальным эквивалентом Музея модернизма в Советском Союзе после 20−30-х был Музей революции, но это отдельная история, я об этом расскажу чуть позже, хотя, повторюсь, только формальным, потому что с концептуальной точки зрения, конечно же, Музей революции очень сильно от Музея модернизма отличается.
Мы постепенно переходим от музеев, связанных с историческим авангардом, к марксисткой музеологии 20−30-х. К этому времени в Советском Союзе сформировался определенный консенсус по поводу того, чем должен быть музей в обществе, стремящемся к коммунизму. Большая часть идей с ним связанных были озвучены в рамках Первого всероссийского музейного съезда, а также появились на страницах официального органа советских музеологов, журнала «Советский музей».
Основным методом работы музея в этот период должен был стать диалектический материализм. В самом общем виде это означало, что, в отличие от буржуазных музеев прошлого, советские институции подобного рода должны подходить к естественной истории, социальной истории, сфере культуры не как к отчужденным и враждебным по отношению к человеку сферам, но как к продуктам его сознательных усилий. Столь ненавидимая музеологами Кунсткамера, то есть вульгарно материалистический или же идеалистический музей, должна была смениться музеем как неотъемлемой частью творческой трансформации жизни, то есть, собственно, то, о чем мы говорили в первой трети моего выступления.
Пассивность, нейтральность, псевдопозитивистская или же метафизическая позиция музея в отношении исследуемых явлений уходили в прошлое. Политическая ангажированность, партийность, непосредственная включенность в производственные процессы и в продолжающуюся классовую борьбу, критика идеологических предрассудков, критика фетишизма — вот те новые ориентиры, которые поднимались на флаг советскими музеологами 20−30-х годов.
Несколько примеров того, как же это выглядело. Понятно, что здесь музейная деятельность слабо отличалась от общих процессов, которые происходили в Советском Союзе. А если огрублять, то их можно сводить к тому, что была директива — давайте перестроим нашу творческую деятельность в соответствии с новой научной философией диалектического материализма. Но каким образом это нужно было сделать, было непонятно. Поэтому на короткий промежуток времени возникает много разных, порой спорящих друг с другом и довольно странных видений музейной деятельности.
Например, один из главных редакторов «Советского музея» философ-марксист Луппол предложил разделить музейную сеть на два типа: на музеи-базисы (экономические музеи) и музеи-надстройки (музеи быта, художественные музеи и прочее). Это такая вот марксистская терминология. То есть музеи-базисы, базис — это то, что относится к экономическим производственным отношениям, а надстройка — то, что относится к сфере идеологии, искусство в какой-то степени тоже сюда относится.
Вся творческая деятельность человека может быть описана и детерминируется именно экономическими и производственными отношениями
Серьезные трансформации возникают в культуре и искусстве. Так одним из таких важных дебатировавшихся докладов на Первом музейном съезде был доклад Алексея Федорова-Давыдова, который на тот момент занимал пост главы Отдела нового искусства Государственной Третьяковской галереи.
Алексей Федоров-Давыдов находился под влиянием социологического искусствознания, которое в Советском Союзе развивал Владимир Фриче. Но это искусствознание известно нам, главным образом, по своему негативному именованию, а именно вульгарной социологии. С вульгарной социологией как раз боролся упоминавшийся мной ранее Михаил Лившиц, которого я упоминал прежде.
В чем была идея Федорова-Давыдова и Фриче? Это была такая редукционистская трактовка марксизма в отношении искусства и, собственно, трактовка как раз отношений между базисом и надстройкой. И согласно представителям социологической школы, вся творческая деятельность человека может быть описана и детерминируется именно экономическими и производственными отношениями.
Алексей Федоров-Давыдов находился под влиянием социологического искусствознания, которое в Советском Союзе развивал Владимир Фриче. Но это искусствознание известно нам, главным образом, по своему негативному именованию, а именно вульгарной социологии. С вульгарной социологией как раз боролся упоминавшийся мной ранее Михаил Лившиц, которого я упоминал прежде.
В чем была идея Федорова-Давыдова и Фриче? Это была такая редукционистская трактовка марксизма в отношении искусства и, собственно, трактовка как раз отношений между базисом и надстройкой. И согласно представителям социологической школы, вся творческая деятельность человека может быть описана и детерминируется именно экономическими и производственными отношениями.
Федоров-Давыдов Алексей Александрович (1900–1969) — советский историк искусства, музейный деятель, изоконсультант Главнауки Народного комиссариата просвещения. В 1931–1934 годах заведовал отделом нового русского искусства Государственной Третьяковской галереи. Принимал участие в Первом Всероссийском музейном съезде 1930 года. Музеелогические труды в основном связаны с разработкой принципов строительства художественных музеев и их экспозиций. Считал, что необходим подход к музею как к «демонстратору процессов», а не вещей. Автор многочисленных обзорных и критических статей о художественных выставках.
Федоров-Давыдов Алексей c сыном, 1930s, archive.gov.tatarstan.ru
Федоров-Давыдов Алексей c сыном, 1930s, archive.gov.tatarstan.ru
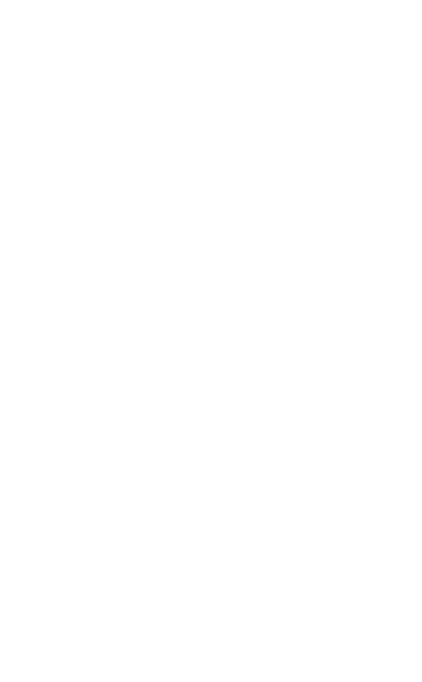
В таком упрощенном виде это означает, что вся ваша деятельность определяется вашей классовой позицией: если вы родились в буржуазной семье, то ваше искусство будет отражать идеи буржуазного класса, если вы родились в пролетарской семье или в крестьянской семье, соответственно, вы принадлежите к этому классу, и искусство, которое вы будете производить, по определению будет прогрессивным и, соответственно, в случае с буржуазией будет реакционным.
Понятно, что это довольно грубый и, как минимум спорный взгляд на искусство, который впоследствии будет подвергнут жестокой критике. Но именно благодаря такой редуцированной трактовке марксизма возникают довольно инновативные музейные практики. Федоровым-Давыдовым предлагается такой способ музейного дисплея, который только спустя много-много десятилетий сможет вновь возникнуть, например, в деятельности художников-концептуалистов или в деятельности художников, связанных с институциональной критикой.
Проблема там была примерно та же самая, что и с Малевичем, Пуниным и так далее, то есть, с одной стороны, художники и музейные деятели были крайне негативно настроены по отношению к искусству прошлого, потому что искусство прошлого — это по определению искусство правящих классов, искусство эксплуататоров, а с другой стороны, на тот момент уже было понятно, что исходя из разных соображений просто так взять и уничтожить музеи и собственно культурное наследие нельзя. Возникал вопрос, как же можно его показывать.
Понятно, что это довольно грубый и, как минимум спорный взгляд на искусство, который впоследствии будет подвергнут жестокой критике. Но именно благодаря такой редуцированной трактовке марксизма возникают довольно инновативные музейные практики. Федоровым-Давыдовым предлагается такой способ музейного дисплея, который только спустя много-много десятилетий сможет вновь возникнуть, например, в деятельности художников-концептуалистов или в деятельности художников, связанных с институциональной критикой.
Проблема там была примерно та же самая, что и с Малевичем, Пуниным и так далее, то есть, с одной стороны, художники и музейные деятели были крайне негативно настроены по отношению к искусству прошлого, потому что искусство прошлого — это по определению искусство правящих классов, искусство эксплуататоров, а с другой стороны, на тот момент уже было понятно, что исходя из разных соображений просто так взять и уничтожить музеи и собственно культурное наследие нельзя. Возникал вопрос, как же можно его показывать.
Вот одно из решений было предложено группой Федорова-Давыдова в форме экспериментальных комплексных марксистских экспозиций. И идея была в том, чтобы попытаться каким-то образом отстранить, если использовать терминологию русских формалистов, это искусство прошлого и показать, что на самом деле оно создавалось не для того, чтобы висеть в некоем безвоздушном пространстве, в некоем храме искусства, а создавалось оно всегда исходя из конкретных целей, которые часто несли на себе довольно брутальный отпечаток экономической и политической ситуации.
Вот эти экспозиции строились Федоровым-Давыдовым в некотором смысле в близком ключе к тому, что делал Дорнер. Вначале я начинал с него, с «Абстрактного кабинета» Лисицкого и атмосферных комнат Дорнера. Но в случае с Федоровым-Давыдовым он эти атмосферные комнаты, где каждая комната отвечает за определенную стилистику, за определенную эпоху, политизировал, он эти комнаты помещал в контекст их собственного производства.
Вот эти экспозиции строились Федоровым-Давыдовым в некотором смысле в близком ключе к тому, что делал Дорнер. Вначале я начинал с него, с «Абстрактного кабинета» Лисицкого и атмосферных комнат Дорнера. Но в случае с Федоровым-Давыдовым он эти атмосферные комнаты, где каждая комната отвечает за определенную стилистику, за определенную эпоху, политизировал, он эти комнаты помещал в контекст их собственного производства.
«Искусство индустриальной буржуазии», ГТГ, Москва, 1931
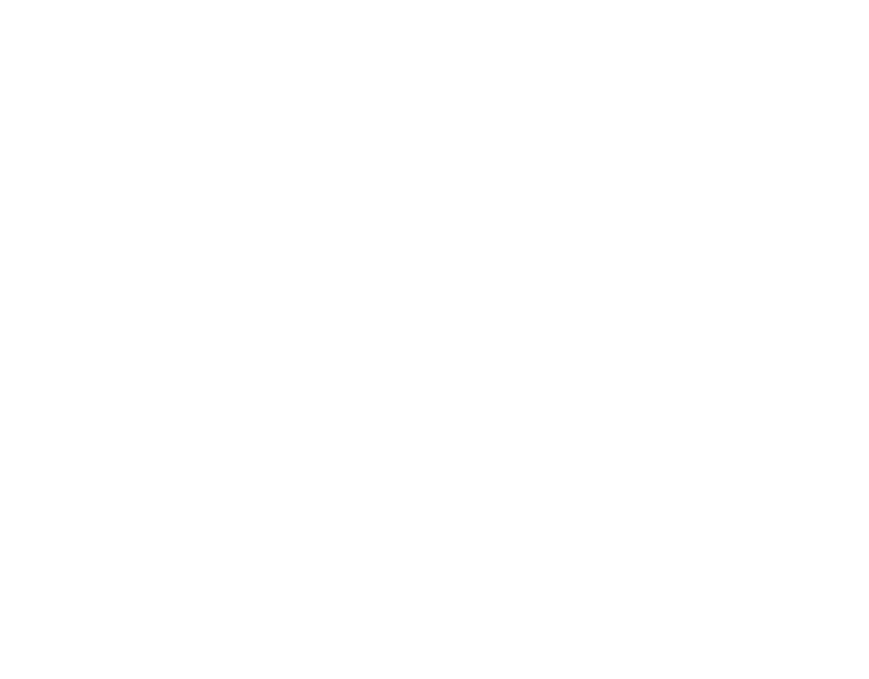
И таким образом, из нейтрального показа, из нейтрального дисплея шедевров прошлого музейная экспозиция превращалась в такую критическую инсталляцию, где, помимо произведений искусства, активное место занимала на стене текстовая информация: цитаты, экономическая информация, статистика и так далее и так далее.
Плюс слово «комплекс» обозначало комплексное видение искусства, что искусство не возникает независимо или опять же в некоторой вот такой безвоздушной невесомости, а оно всегда возникает в некоем эстетическом пространстве, плюс-минус цельном, то есть стилистически близком. На выходе эти комплексы представляли из себя, скорее, вот такие интерьеры этих людей, которые могли быть хозяевами того или иного произведения искусства.
Таким образом, по задумке Федорова-Давыдова, когда пролетариат приходил в музей, для того чтобы познакомиться с искусством, наконец-то отвоеванном у эксплуататоров, он воспринимал это искусство уже в таком вот охлажденном виде. Он видел, что да, понятно, это искусство феодальной эпохи, мы видим комнату зажиточного какого-нибудь кулака, где висит пусть красивое искусство, но это искусство создано за деньги, которые этот феодал отнимает у своих крестьян, и так далее и так далее. То есть вот это вот чистое эстетическое восприятие помещалось в контекст политической и классовой борьбы.
В целом линия развития музеев в 20−30-е годы повторяет логику производственного искусства и радикального конструктивизма, но, как мне кажется, на более высоком уровне организации. Принято считать, что практически не было художников, которые успешно развивали производственический проект. Максимум радикализма, известного в истории искусства, — это конструктивизм, это «Рабочий комната» Родченко или дизайн текстиля, что-то в таком духе. Ни о какой трансформации труда механического в творческий или трансформации производства в целом говорить не приходится.
Но на удивление, музейные деятели, которые изначально были свободны от дилеммы художников исторического авангарда (необходимости уничтожения границы между искусством и жизнью), то есть уже находились за территорией искусства. И, как следствие, могли свободно экспериментировать. Не удивительно, что в музейной деятельности 20−30-х мы находим очень много примеров, которые являются или могли бы быть интерпретированы как абсолютно логичное следствие производственного постреволюционного авангарда. Хотя в истории искусства эти вещи не идентифицируются как произведения художников, ведь они слишком далеко от магистральной линии развития модернизма.
Когда мы говорим о производственном авангарде уже существует большой вопрос, нужно ли его включать в историю (можно добавить западного, модернистского) искусства. Если ты назвался художником жизни или вообще отказываешься от дефиниции художника, можешь ли ты производить искусство? А если люди, которые в принципе не были художниками, но делают что-то близкое к тому, как должно, выглядеть творческая деятельность после революции, то вопросов со стороны истории искусства еще больше. Но нас не должно это смущать. Подобная трактовка очень узка и ограничивает рамки искусства удобными, принятыми на территории современной академии рамками.
Несмотря на игнорировании историей искусства проекты, развивавшие производственный авангард, существовали. В частности, я нашел текст Аркина, который рассказывал о музеях на производстве. В основном производство все равно какое, декоративной промышленности, фарфора, где музей выполнял роль такой лаборатории по созданию образцов для внедрения в производство. Но были также примеры музеев, которые создавались не на творческих производствах, и тогда музей выполнял роль в основном помощи в формировании адаптации рабочего и помощи в трансформации идентичности этого завода и так далее.
Плюс слово «комплекс» обозначало комплексное видение искусства, что искусство не возникает независимо или опять же в некоторой вот такой безвоздушной невесомости, а оно всегда возникает в некоем эстетическом пространстве, плюс-минус цельном, то есть стилистически близком. На выходе эти комплексы представляли из себя, скорее, вот такие интерьеры этих людей, которые могли быть хозяевами того или иного произведения искусства.
Таким образом, по задумке Федорова-Давыдова, когда пролетариат приходил в музей, для того чтобы познакомиться с искусством, наконец-то отвоеванном у эксплуататоров, он воспринимал это искусство уже в таком вот охлажденном виде. Он видел, что да, понятно, это искусство феодальной эпохи, мы видим комнату зажиточного какого-нибудь кулака, где висит пусть красивое искусство, но это искусство создано за деньги, которые этот феодал отнимает у своих крестьян, и так далее и так далее. То есть вот это вот чистое эстетическое восприятие помещалось в контекст политической и классовой борьбы.
В целом линия развития музеев в 20−30-е годы повторяет логику производственного искусства и радикального конструктивизма, но, как мне кажется, на более высоком уровне организации. Принято считать, что практически не было художников, которые успешно развивали производственический проект. Максимум радикализма, известного в истории искусства, — это конструктивизм, это «Рабочий комната» Родченко или дизайн текстиля, что-то в таком духе. Ни о какой трансформации труда механического в творческий или трансформации производства в целом говорить не приходится.
Но на удивление, музейные деятели, которые изначально были свободны от дилеммы художников исторического авангарда (необходимости уничтожения границы между искусством и жизнью), то есть уже находились за территорией искусства. И, как следствие, могли свободно экспериментировать. Не удивительно, что в музейной деятельности 20−30-х мы находим очень много примеров, которые являются или могли бы быть интерпретированы как абсолютно логичное следствие производственного постреволюционного авангарда. Хотя в истории искусства эти вещи не идентифицируются как произведения художников, ведь они слишком далеко от магистральной линии развития модернизма.
Когда мы говорим о производственном авангарде уже существует большой вопрос, нужно ли его включать в историю (можно добавить западного, модернистского) искусства. Если ты назвался художником жизни или вообще отказываешься от дефиниции художника, можешь ли ты производить искусство? А если люди, которые в принципе не были художниками, но делают что-то близкое к тому, как должно, выглядеть творческая деятельность после революции, то вопросов со стороны истории искусства еще больше. Но нас не должно это смущать. Подобная трактовка очень узка и ограничивает рамки искусства удобными, принятыми на территории современной академии рамками.
Несмотря на игнорировании историей искусства проекты, развивавшие производственный авангард, существовали. В частности, я нашел текст Аркина, который рассказывал о музеях на производстве. В основном производство все равно какое, декоративной промышленности, фарфора, где музей выполнял роль такой лаборатории по созданию образцов для внедрения в производство. Но были также примеры музеев, которые создавались не на творческих производствах, и тогда музей выполнял роль в основном помощи в формировании адаптации рабочего и помощи в трансформации идентичности этого завода и так далее.
Отдельную важную часть играли музеи быта, в том числе революционного быта. Вот здесь, например, это выставка в ленинградском Музее революции «Народной воли», воркшоп по созданию динамита. То есть понятно, что при всей радикальности институций современного искусства и современных музеев представить воркшоп по созданию динамита мы не можем. Однако постреволюционная ситуация 20−30-х такого рода вещи вполне себе допускала.
Выставка «Народная Воля», воркшоп по созданию динамита, 1931
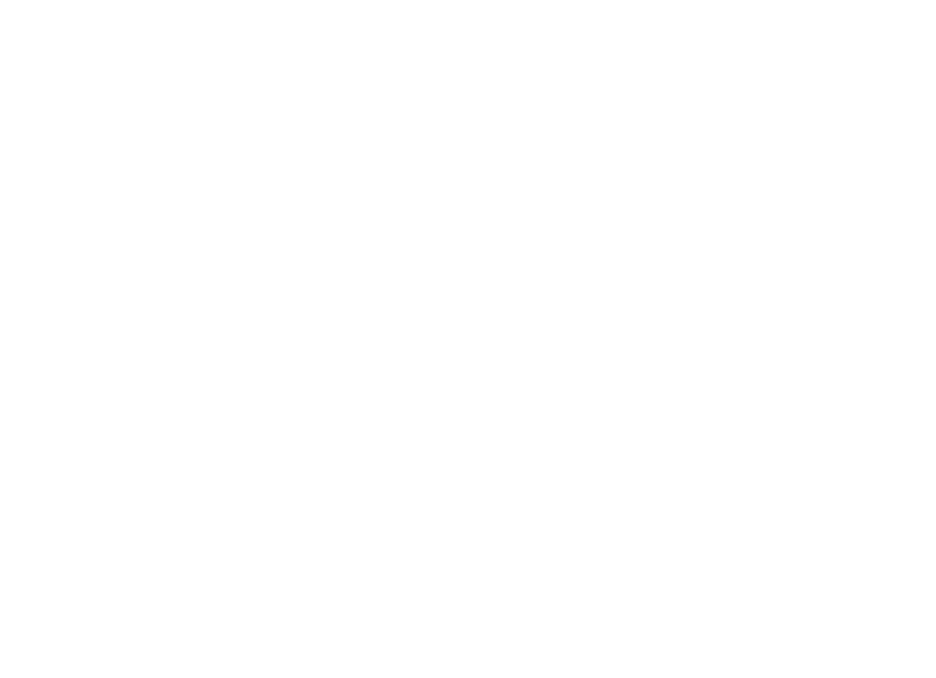
Или вот другая история. Это выставка мобильной хаты-лаборатории, агитационный автомобиль. То есть логика примерно та же самая, что и производственников, предполагающая выход музея за свои собственные рамки.
Мобильная хата-лаборатория, 1935
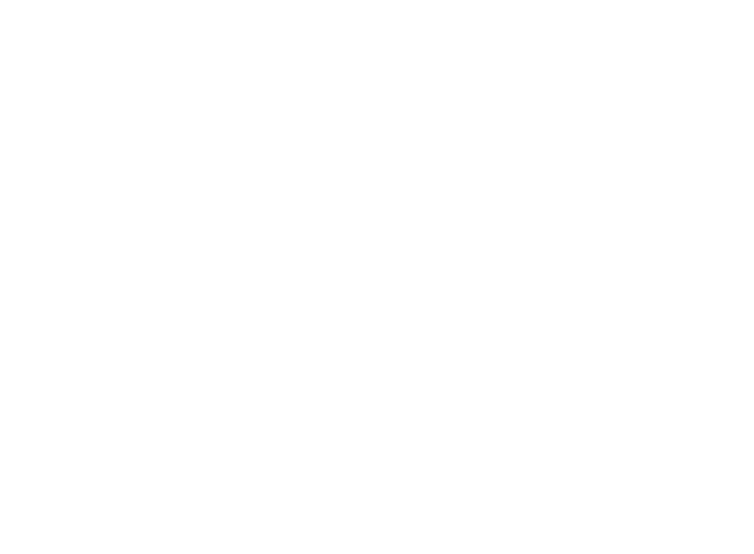
И на страницах «Советского музея», журнала, можно найти много примеров так называемых выставок-передвижек, таких передвижных выставок или вообще экспериментов довольно странного рода, когда в качестве музея или музейной выставки люди создавали сады, например, или же вот эта хата-лаборатория, которая представляла из себя одновременно и выставку, и аграрную лабораторию.
И по задумке такого рода передвижные выставки должны были отправляться в удаленные деревни и способствовать социалистическому развитию, чтобы крестьяне вместе с профессионалами, кураторами и художниками учились, каким образом лучше выращивать растения и помогать развитию социалистического строительства.
И по задумке такого рода передвижные выставки должны были отправляться в удаленные деревни и способствовать социалистическому развитию, чтобы крестьяне вместе с профессионалами, кураторами и художниками учились, каким образом лучше выращивать растения и помогать развитию социалистического строительства.
Агитационный автомобиль, 1932
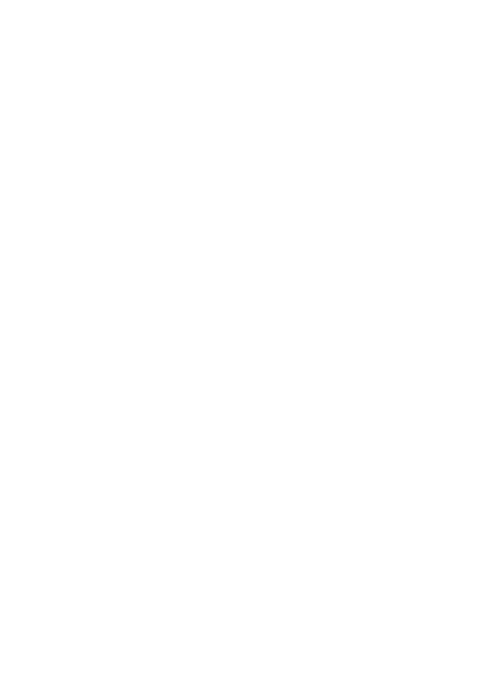
Советским эквивалентом, по крайней мере, если мы судим с формальной точки зрения, музея модернистского искусства был музей революции
Как я упоминал ранее, мне представляется, что советским эквивалентом, по крайней мере, если мы судим с формальной точки зрения, музея модернистского искусства был музей революции. Но если музей модернизма или музей современного искусства был музеем, который посвящен такой вот продолжающейся смерти искусства, такого прерывания в истории искусства, то музей революции был посвящен прерыванию, собственно, истории жизни, социальной истории, причем прерыванию, которое не длится неограниченно долгое время, а происходит в какой-то один момент вместе с революцией и дальше радикальным образом эту историю трансформирует.
И, как мне представляется, в контексте музея модернизма и музея революции можно говорить о кураторской инсталляции и о художнической инсталляции. Эта важная для меня дефиниция есть у Бориса Гройса, который, рассуждая о политике инсталляции, как раз разделяет инсталляцию, которую делает куратор, и инсталляцию, которую делает художник. В последнем случае мы говорим о некоей предельной свободе, суверенной свободе, потому что художник в нашем мире, в западном мире — это человек как бы неприкосновенный, которому не писаны законы, который может творить все что угодно, и, соответственно, в его инсталляциях мы сталкиваемся с моделью свободы, которая будет в постреволюционном будущем. Но есть одно серьезное возражение. Все инсталляции художников всегда должны проходить адаптацию в инсталляциях куратора.
Инсталляции куратора — уже что-то посередине между вот этой вот предельной автономной свободой художника и институциональной, такой вот буржуазной свободой, буржуазной демократией. И куратор — это тот человек, который нормализует свободу художника, инсталляцию художника. А именно — вписывает ее в поле модернистского музея, где есть определенного рода консенсус по поводу того, что можно делать и что делать нельзя. И, как я уже много сегодня говорил, этот консенсус постреволюционный производственный авангард разрывает.
С модернистским музеем нам более-менее все понятно. А что такое музей революции? Это тотальная инсталляция, которая состоит не из разных художнических инсталляций, нормализованных куратором, то есть кураторская инсталляция. Это именно художническая инсталляция, которая создается коллективом в пределе пролетариата, постепенно исчезающего по мере развития коммунистического общества. И это инсталляция, в которой достигается предельный уровень свободы, и ей уже никакая нормализация не нужна, потому что мы говорим о постреволюционном обществе.
И в принципе отголосок этой же логики до некоторых пор вы могли видеть в бывших музеях революции, которые дожили даже до наших дней. Ведь в нашей стране, где слово «революция», по сути дела, находится под запретом или как минимум не может употребляться в позитивном контексте, в бывших музеях революции можно было наблюдать экспозиции, посвященные борьбе с политическими репрессиями, тому, как нужно сопротивляться цензуре, и так далее и тому подобное. В общем, как мне кажется, музеи революции — это так пока еще нераспознанная вершина человеческого творчества 20-го века.
И, как мне представляется, в контексте музея модернизма и музея революции можно говорить о кураторской инсталляции и о художнической инсталляции. Эта важная для меня дефиниция есть у Бориса Гройса, который, рассуждая о политике инсталляции, как раз разделяет инсталляцию, которую делает куратор, и инсталляцию, которую делает художник. В последнем случае мы говорим о некоей предельной свободе, суверенной свободе, потому что художник в нашем мире, в западном мире — это человек как бы неприкосновенный, которому не писаны законы, который может творить все что угодно, и, соответственно, в его инсталляциях мы сталкиваемся с моделью свободы, которая будет в постреволюционном будущем. Но есть одно серьезное возражение. Все инсталляции художников всегда должны проходить адаптацию в инсталляциях куратора.
Инсталляции куратора — уже что-то посередине между вот этой вот предельной автономной свободой художника и институциональной, такой вот буржуазной свободой, буржуазной демократией. И куратор — это тот человек, который нормализует свободу художника, инсталляцию художника. А именно — вписывает ее в поле модернистского музея, где есть определенного рода консенсус по поводу того, что можно делать и что делать нельзя. И, как я уже много сегодня говорил, этот консенсус постреволюционный производственный авангард разрывает.
С модернистским музеем нам более-менее все понятно. А что такое музей революции? Это тотальная инсталляция, которая состоит не из разных художнических инсталляций, нормализованных куратором, то есть кураторская инсталляция. Это именно художническая инсталляция, которая создается коллективом в пределе пролетариата, постепенно исчезающего по мере развития коммунистического общества. И это инсталляция, в которой достигается предельный уровень свободы, и ей уже никакая нормализация не нужна, потому что мы говорим о постреволюционном обществе.
И в принципе отголосок этой же логики до некоторых пор вы могли видеть в бывших музеях революции, которые дожили даже до наших дней. Ведь в нашей стране, где слово «революция», по сути дела, находится под запретом или как минимум не может употребляться в позитивном контексте, в бывших музеях революции можно было наблюдать экспозиции, посвященные борьбе с политическими репрессиями, тому, как нужно сопротивляться цензуре, и так далее и тому подобное. В общем, как мне кажется, музеи революции — это так пока еще нераспознанная вершина человеческого творчества 20-го века.
Интересно тоже, были музеи освобождения женщин. К сожалению, подробных материалов мне не удалось найти на эту тему, но отдельные выставки описаны и ссылки встречаются. В частности здесь на фотографии вы видите надпись, искусство раскрепощенной женщины Азербайджана, искусство кочевницы. Темы, которые до сих пор являются очень болезненными. До сих пор во многом справедливо считается, что история искусства — это история белых мужчин, но в 20-е годы советским музеологам уже было что сказать на эту тему.
Искусство кочевницы, 1930s
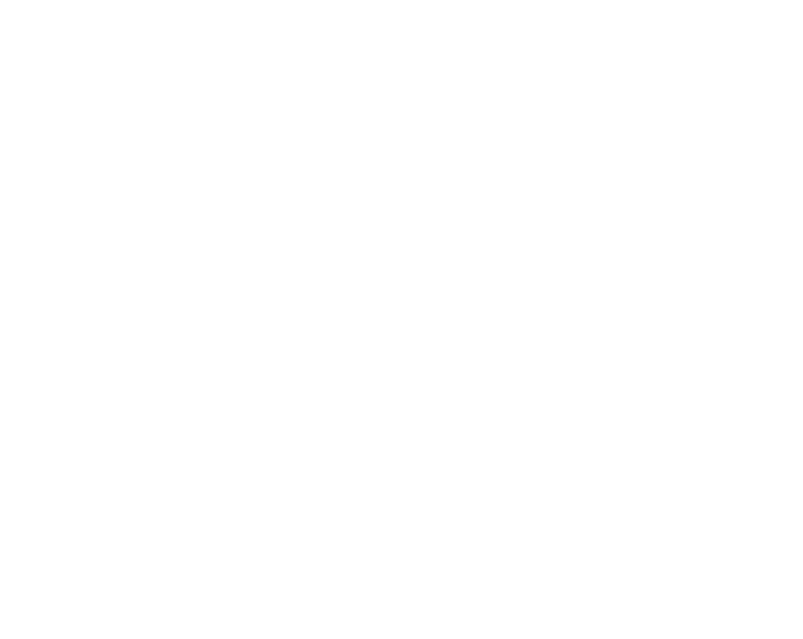
Их лице мы имеем пример очень нетривиальных и очень смелых художнических решений, потому что музеи атеизма, исходя из своей специфики, должны были работать в контексте, который изначально был очень сильно заряжен эстетически
И, собственно, музеи атеизма. Вот ленинградский Музей атеизма. Очень интересная фотография с как раз таки адаптацией формального языка исторического авангарда под вот такие нарративные нужды уже марксисткой музеологии. Вообще музеи атеизма — это очень большая, отдельная, сложная тема.
Единственное, что скажу, как мне кажется, в их лице мы имеем пример очень нетривиальных и очень смелых художнических решений, потому что музеи атеизма, исходя из своей специфики, должны были работать в контексте, который изначально был очень сильно заряжен эстетически. Понятно, что религиозные сооружения представляют из себя такие тоже тотальные инсталляции с очень ярко выраженными спектакулярными спецэффектами.
Единственное, что скажу, как мне кажется, в их лице мы имеем пример очень нетривиальных и очень смелых художнических решений, потому что музеи атеизма, исходя из своей специфики, должны были работать в контексте, который изначально был очень сильно заряжен эстетически. Понятно, что религиозные сооружения представляют из себя такие тоже тотальные инсталляции с очень ярко выраженными спектакулярными спецэффектами.
Ленинградский музей атеизма
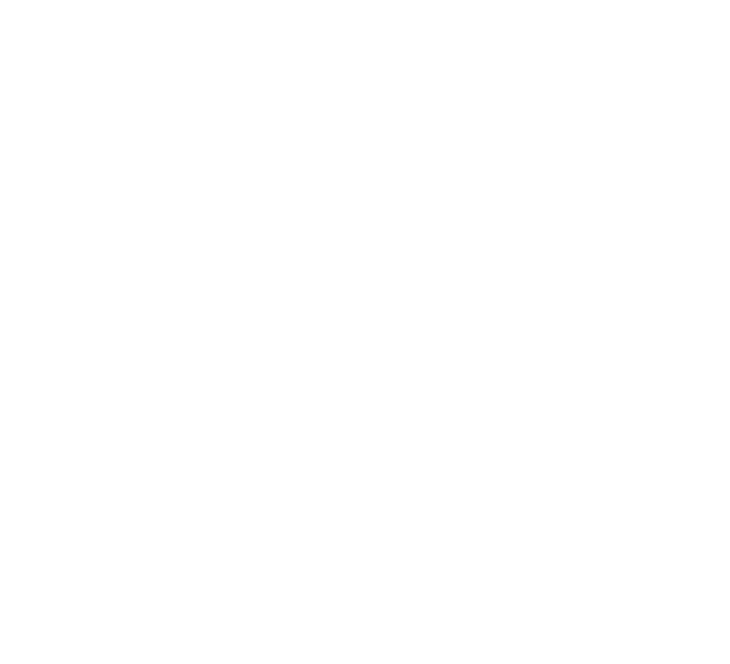
Так вот, музеи атеизма хотели работать в деконструктивистском ключе, показывая, что эта спектакулярность и эстетический прессинг религиозных пространств на самом деле был фиктивным, манипулятивным. При этом экспозиции делались исходя из того, чтобы музей атеизма не уступал по силе своего воздействия тому, что человек может увидеть в церкви. Плюс мы не должны забывать, что это был способ сохранить церковные сооружения. Вот еще один музей атеизма.
Ленинградский музей атеизма
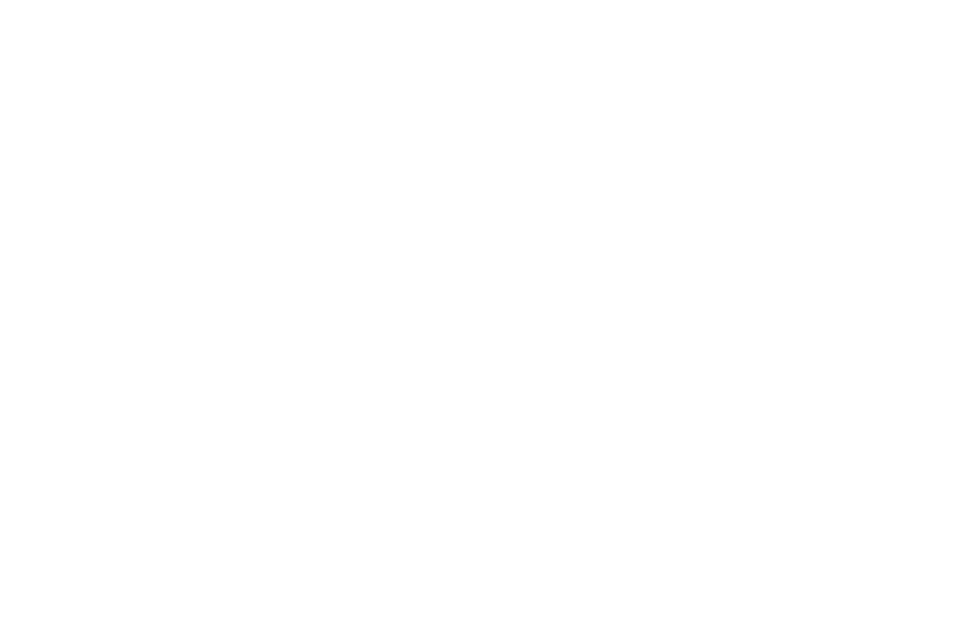
Итак мы плавно переходим к музеям в контексте русского космизма. Я когда рассказывал вам про Бориса Арватова, описал, пожалуй, наверное, тот предел, который сегодня принят в качестве консенсуса для развития искусства, но даже у Арватова мы можем найти рассуждения на тему того, что и в высокоразвитом коммунистическом обществе может сохраниться место для традиционных медиумов искусства, таких, как живопись или скульптура, потому что даже несмотря на то, что мы можем решить все социальные противоречия, разрешить классовые противоречия, вообще в идеале уничтожить классы и тем самым убрать питательную почву для вот этих вот традиционных медиумов искусства, но даже в таком обществе у коммунистов все равно сохранятся тела, а значит, сохранятся главные аффекты, связанные с этими телами, а именно смерть и попытка решить проблему в смерти посредством сексуальных отношений и продления человеческого рода. То есть это еще один источник, резервуар травм, который будет питать искусство в коммунистическом обществе.
Здесь на сцену выходят музеи в интерпретации русского космизма, который спекулирует как раз о том, что будет после смерти, после социальной и классовой революции и после того, как мы сможем преодолеть сексуальные отношения, понятые как попытка разрешить проблему смерти.
Здесь на сцену выходят музеи в интерпретации русского космизма, который спекулирует как раз о том, что будет после смерти, после социальной и классовой революции и после того, как мы сможем преодолеть сексуальные отношения, понятые как попытка разрешить проблему смерти.
В мире должна быть достигнута предельно возможная справедливость, равенство, поэтому, кстати, многие космисты очень позитивно восприняли пролетарскую революцию, требовали от нее продолжения и радикализации
Попробую очень бегло рассказать об отце-основателе русского космизма, Николае Федорове, и дальше упомяну несколько космистских вариантов музея. Федоров является одним из главных представителей русской религиозной философии или представителем так называемого активного христианства. В чем заключается его центральная философская идея?
Николай Федорович Федоров (1829−1903) — мыслитель, представитель русской религиозной философии и отец-основатель русского космизма. Большую часть жизни работал библиотекарем в Румянцевском музее в Москве. Развивал философское учение об «общей задаче», которое подразумевало всеобщее воскресение и бессмертие. Музей должен был стать платформой для воплощения доктрины в жизнь. Федоров участвовал в организации регионального музея в Воронеже (основан в 1894 году), где он инициировал и активно участвовал в подготовка серии экспериментальных выставок.
Похороны Федорова, 1903, фото из www.bolesmir.ru
Похороны Федорова, 1903, фото из www.bolesmir.ru
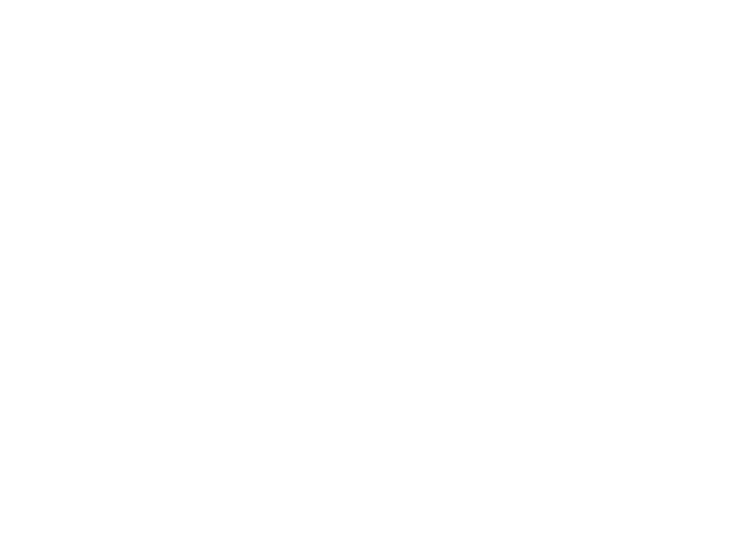
Центральная философская идея заключается в том, что в мире должна быть достигнута предельно возможная справедливость, равенство, поэтому, кстати, многие космисты очень позитивно восприняли пролетарскую революцию, требовали от нее продолжения и радикализации. Федорову было понятно, что даже если когда-то возникнет свободное общество коммунистов, во-первых, оно будет несправедливым по отношению к тем героям, которые положили свою жизнь за то, чтобы это общество стало возможным, а во-вторых, это общество свободных людей все равно не изживает центральной проблемы человечества, центрального зла, которым является смерть.
В отдельных аспектах Федоров и Маркс могут быть сопоставлены. Как минимум они пишут плюс-минус в одно время, но, безусловно, у них много отличий, главные из которых в том, что Федоров не признает никакого революционного насилия и уделяет особое место религии. При этом его подход к философии может быть описан как такой антифилософский, и в этом смысле он близок к марксистскому пониманию философии, выраженному в «Тезисах о Фейербахе», где мыслитель говорит, что философия должна не объяснять мир, а трансформировать его.
Вот Федоров тоже считал, что мир при помощи философии должен быть трансформирован, и трансформация эта должна быть осуществлена в рамках общего дела.
Общее дело — это центральный концепт Федорова, который заключается в том, что человечество должно объединить свои усилия с целью борьбы со смертью. То есть если у марксистов мы объединяемся с целью борьбы с классовой враждой, то в случае с Федоровым мы имеем дело с еще более унифицирующим злом, смертью. Если в случае с классовой борьбой могут быть дебаты и кто-то скажет, что я не приемлю насилие или что я готов встать на позицию пролетариата, то в случае со смертью мы имеем дело в каком-то смысле с более универсальным злом. Умирают все, поэтому Федоров считал, что достаточно просто указать на значимость этой проблемы и желательно попробовать ее демистифицировать.
С одной стороны, у Федорова важная роль отводится религии, в основном христианству, но, с другой стороны, он трактует церковь очень еретически, очень материалистически. Его в советские годы называют поэтому христианский материалист. Мылситель говорит о том, что у церкви есть интуиция бессмертия, но эта интуиция бессмертия обещает нам некие заоблачные дали, которые откроются лишь после смерти, а это иллюзия.
Нам необходимо рационально понять христианские (и других религий) заветы в отношении бесмертия и распространить их на другие институции, например, на науку или же на искусство. Ведь по Федорову, центральную роль в общем деле должны играть искусство и музей, потому что именно музей — это то место, которое собирает все ненужное, все отбросы жизни, все отжившее, и несмотря ни на что, несмотря ни на какую низкую ценность с точки зрения актуального производственного процесса он эти следы жизни сохраняет.
Так вот, мыслитель считал, что музеи должны быть соединены с научными лабораториями, с церковными школами, чтобы стать вот такими опять же, как это хотел Пунин и Осип Брик, исследовательскими институциями, но предмет их исследования в отличии от музеев авангардизма — это борьба со смертью.
В отдельных аспектах Федоров и Маркс могут быть сопоставлены. Как минимум они пишут плюс-минус в одно время, но, безусловно, у них много отличий, главные из которых в том, что Федоров не признает никакого революционного насилия и уделяет особое место религии. При этом его подход к философии может быть описан как такой антифилософский, и в этом смысле он близок к марксистскому пониманию философии, выраженному в «Тезисах о Фейербахе», где мыслитель говорит, что философия должна не объяснять мир, а трансформировать его.
Вот Федоров тоже считал, что мир при помощи философии должен быть трансформирован, и трансформация эта должна быть осуществлена в рамках общего дела.
Общее дело — это центральный концепт Федорова, который заключается в том, что человечество должно объединить свои усилия с целью борьбы со смертью. То есть если у марксистов мы объединяемся с целью борьбы с классовой враждой, то в случае с Федоровым мы имеем дело с еще более унифицирующим злом, смертью. Если в случае с классовой борьбой могут быть дебаты и кто-то скажет, что я не приемлю насилие или что я готов встать на позицию пролетариата, то в случае со смертью мы имеем дело в каком-то смысле с более универсальным злом. Умирают все, поэтому Федоров считал, что достаточно просто указать на значимость этой проблемы и желательно попробовать ее демистифицировать.
С одной стороны, у Федорова важная роль отводится религии, в основном христианству, но, с другой стороны, он трактует церковь очень еретически, очень материалистически. Его в советские годы называют поэтому христианский материалист. Мылситель говорит о том, что у церкви есть интуиция бессмертия, но эта интуиция бессмертия обещает нам некие заоблачные дали, которые откроются лишь после смерти, а это иллюзия.
Нам необходимо рационально понять христианские (и других религий) заветы в отношении бесмертия и распространить их на другие институции, например, на науку или же на искусство. Ведь по Федорову, центральную роль в общем деле должны играть искусство и музей, потому что именно музей — это то место, которое собирает все ненужное, все отбросы жизни, все отжившее, и несмотря ни на что, несмотря ни на какую низкую ценность с точки зрения актуального производственного процесса он эти следы жизни сохраняет.
Так вот, мыслитель считал, что музеи должны быть соединены с научными лабораториями, с церковными школами, чтобы стать вот такими опять же, как это хотел Пунин и Осип Брик, исследовательскими институциями, но предмет их исследования в отличии от музеев авангардизма — это борьба со смертью.
Долг, который будут иметь вот эти вот счастливчики, обладатели бессмертия, по отношению к предыдущим поколениям, является настолько тяжелым этическим бременем, что он неминуемо должен вести к разработке технологий воскрешения. И, собственно, музеи становятся тем пространством, откуда это воскрешение начинается
Когда возникнет поколение людей, которое сможет жить вечно, возникает следующий этап, следующая проблема. Это воскрешение, потому что, в логике Федорова, именно долг, который будут иметь вот эти вот счастливчики, обладатели бессмертия, по отношению к предыдущим поколениям, является настолько тяжелым этическим бременем, что он неминуемо должен вести к разработке технологий воскрешения. И, собственно, музеи становятся тем пространством, откуда это воскрешение начинается.
Космос в философии Федорова имел прикладное значение. Он считал, что если мы воскресим всех, когда-либо живших на земле, нам просто не хватит места. Соответственно, нам необходимо начать колонизацию космоса, для того чтобы расселять воскрешаемые поколения. И, собственно, искусство, по Федорову, — это есть восстановление некогда существовавшего и его преображение. Поэтому в контексте его проекта можно говорить о том, что первостепенное значение имеет технология, причем технология, связанная с искусством, технология, связанная с музеем.
Все это писалось в конце XIX, во второй половине XIX, в конце XIX и начале, самом-самом первом десятилетии XX века, но тем удивительнее, что Федоров уже при жизни совершает попытки свои музеологические концепции воплотить в жизнь.
В частности, он выступает куратором нескольких выставок в Воронеже, где работает его ученик Петерсон, и является одним из вдохновителей местного краеведческого музея, а также вдохновляет местного художника Льва Соловьева на создание первого воскрешающего музея, который на тот момент представлял из себя бесплатную живописную школу и художническую инсталляцию, посвященную умершей жене этого художника.
Космос в философии Федорова имел прикладное значение. Он считал, что если мы воскресим всех, когда-либо живших на земле, нам просто не хватит места. Соответственно, нам необходимо начать колонизацию космоса, для того чтобы расселять воскрешаемые поколения. И, собственно, искусство, по Федорову, — это есть восстановление некогда существовавшего и его преображение. Поэтому в контексте его проекта можно говорить о том, что первостепенное значение имеет технология, причем технология, связанная с искусством, технология, связанная с музеем.
Все это писалось в конце XIX, во второй половине XIX, в конце XIX и начале, самом-самом первом десятилетии XX века, но тем удивительнее, что Федоров уже при жизни совершает попытки свои музеологические концепции воплотить в жизнь.
В частности, он выступает куратором нескольких выставок в Воронеже, где работает его ученик Петерсон, и является одним из вдохновителей местного краеведческого музея, а также вдохновляет местного художника Льва Соловьева на создание первого воскрешающего музея, который на тот момент представлял из себя бесплатную живописную школу и художническую инсталляцию, посвященную умершей жене этого художника.
Вот Лев Соловьев и эскизы к росписям этого воскрешающего музея.
Воскрешающий музей: Лев Соловьев, эскиз иконы. «Первосвященническая молитва», 1898
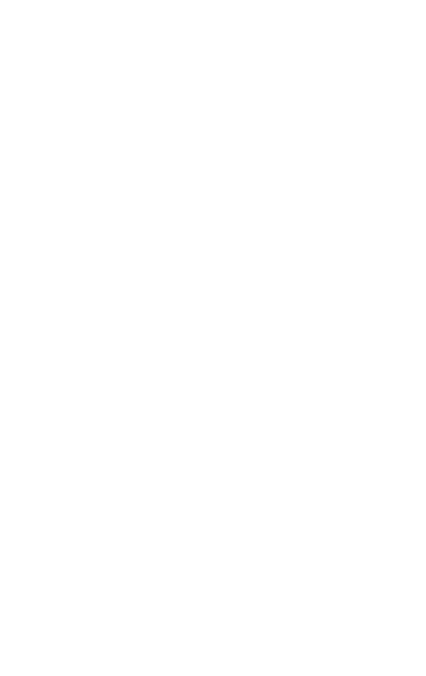
Это работа Василия Чекрыгина. Еще один художник, важный в контексте рассуждений о музейном проекте в философии русского космизма. Чекрыгин относится к малоизвестному и дебатируемому с точки зрения принадлежности, но все же, как мне кажется, авангардному крылу искусства 20-х. Он с юности был знаком с Маяковским, иллюстрировал его книжки, но не принял секулярной марксисткой трактовки авангардного искусства и пытался развивать свою линию, в частности, был одним из сооснователей группы и журнала «Маковец». В молодости он знакомится с идеями общего дела, с философией Федорова и решает посвятить все свои силы созданию проекта воскрешающего музея. Пишет поэму в прозе под названием «Собор воскрешающего музея», а также создает большое количество эскизов потенциальных росписи для него. Любопытно, что, как и многие космисты, Чекрыгин не ограничивается исключительно созданием, в терминологии Федорова, мнимых подобий. Забыл вам сказать, что у Федорова есть очень интересное и характерное в том числе для производственного авангарда деление на искусство подобий, и искусство реального производства жизни. Так вот Чекрыгин тоже пытается двигаться в сторону реального производства. В частности, сохранилась его переписка с Пуниным, где он предлагает советской власти задуматься о создании экспериментальных воскрешающих музеев—научных лабораторий, но, к сожалению, художник трагически погибает в молодом возрасте, попадает под колеса поезда, и многие его проекты остаются незавершенными.
Василий Чекрыгин «Участие науки в акте воскрешения», 1920-е
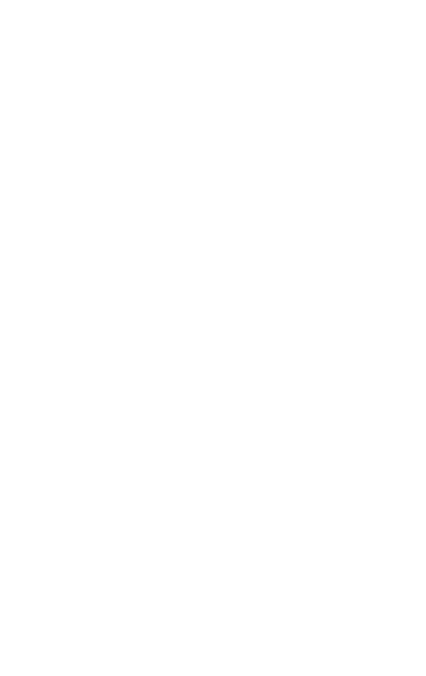
Чтобы закончить с историей художественного объединения Чекрыгина «Маковец», надо упоминуть Павла Флоренского, который тоже имеет отношение и к авангардной музеологии и к космизму. С последним он связан через переписку с Вернадским, где Флоренский предлагает новый термин, пневматосфера, сфера духа, впоследствии ставший одним из источников для формирования идеи ноосферы.
Но для музеологии он важен как человек, который пытался сохранить наследие религиозных учреждений, в частности, написал текст в защиту Сергиево-Троицкой лавры, где указывал на невозможность адекватной музефикации храмового искусства. Оно представлялась Флоренскому прообразом синтетического творчества жизни. И, несмотря на все усилия музеев атеизма, тотальность храмовых действий, которые начинаются с архитектуры и заканчиваются искусством запаха или искусством танца, звука, они сохранить адекватно не могут.
Можно говорить и о Платонове в контексте космистской музеологии. В частности, например, я интерпретирую фрагмент его текста «Чевенгур», посвященный революционному заповеднику, как странную, вывернутую наизнанку идею воскрешающего музея. Исследователи доказывают, что у Платонова были книги Федорова и он был знаком с русским космизмом. Это можно прочувствовать в его творчестве. Но понятно, что классический поздний Платонов — это как раз такой антиФедоров, антикосмистский музей, но все же, как бы то ни было, это приблизительно один и тот же вектор развития. Это отдельный разговор.
Но для музеологии он важен как человек, который пытался сохранить наследие религиозных учреждений, в частности, написал текст в защиту Сергиево-Троицкой лавры, где указывал на невозможность адекватной музефикации храмового искусства. Оно представлялась Флоренскому прообразом синтетического творчества жизни. И, несмотря на все усилия музеев атеизма, тотальность храмовых действий, которые начинаются с архитектуры и заканчиваются искусством запаха или искусством танца, звука, они сохранить адекватно не могут.
Можно говорить и о Платонове в контексте космистской музеологии. В частности, например, я интерпретирую фрагмент его текста «Чевенгур», посвященный революционному заповеднику, как странную, вывернутую наизнанку идею воскрешающего музея. Исследователи доказывают, что у Платонова были книги Федорова и он был знаком с русским космизмом. Это можно прочувствовать в его творчестве. Но понятно, что классический поздний Платонов — это как раз такой антиФедоров, антикосмистский музей, но все же, как бы то ни было, это приблизительно один и тот же вектор развития. Это отдельный разговор.
Необходимо изучить строение мозга гениев и вообще строение мозга важных для истории людей
Наверное, последнее, о чём сегодня расскажу — это про проект «Пантеон Советского Союза». Проект «Пантеон Советского Союза» был предложен нейрофизиологом Бехтеревым, и его идея заключалась в следующем.
Бехтерев считал, что необходимо изучить строение мозга гениев и вообще строение мозга важных для истории людей. В частности, когда формировались идеи Пантеона, уже умер Ленин, и его тело решили сохранить, сделали трепанацию. его мозг изучали, и, в общем, развивая ту же самую логику, Бехтерев предложил для юбилея Революции в 1927 году открыть учреждение под названием «Пантеон Советского Союза». Оно должно было быть одновременно и музеем, и исследовательской лабораторией, и трансформирующейся выставкой.
Бехтерев написал статью в газету «Известия» о том, что необходимо создать специальную комиссию, которая, вне зависимости от желания того или иного советского гражданина, будет после смерти его мозги изымать и помещать в этот Пантеон. Однако, как это часто бывает, Бехтерев не успевает довести до логического завершения свое начинание и внезапно умирает.
Бехтерев считал, что необходимо изучить строение мозга гениев и вообще строение мозга важных для истории людей. В частности, когда формировались идеи Пантеона, уже умер Ленин, и его тело решили сохранить, сделали трепанацию. его мозг изучали, и, в общем, развивая ту же самую логику, Бехтерев предложил для юбилея Революции в 1927 году открыть учреждение под названием «Пантеон Советского Союза». Оно должно было быть одновременно и музеем, и исследовательской лабораторией, и трансформирующейся выставкой.
Бехтерев написал статью в газету «Известия» о том, что необходимо создать специальную комиссию, которая, вне зависимости от желания того или иного советского гражданина, будет после смерти его мозги изымать и помещать в этот Пантеон. Однако, как это часто бывает, Бехтерев не успевает довести до логического завершения свое начинание и внезапно умирает.
Пантеон СССР: заброшенный филиал Института мозга, 2000–2010
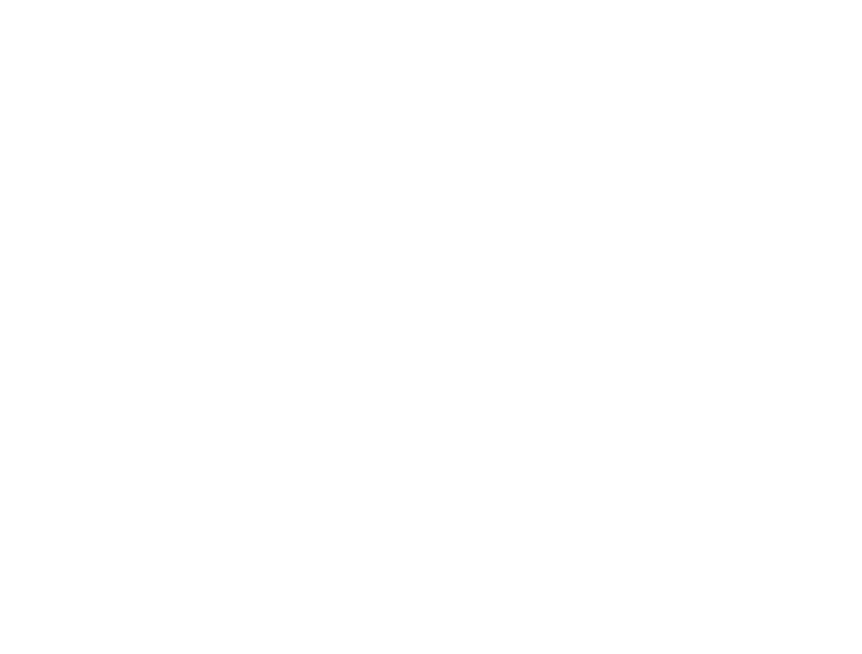
Но удивительным образом идея Пантеона показалась интересной и продуктивной для руководителей страны, что привело к её реализации. Но уже не в форме Пантеона Советского Союза, который должен был быть в Ленинграде, а в форме московского Института мозга. Одним из первых экспонатов новой институции стал мозг Владимира Бехтерева, а впоследствии там были сохранены мозги многих важных людей для истории Советского Союза и истории постреволюционного искусства: мозг поэта Маяковского, писателя Горького, мозг революционерки, жены Ленина, Надежды Крупской, культурного деятеля Анатолия Луначарского, физиолога Павлова и, наконец, еще одного важного деятеля, связанного с философией русского космизма, Константина Циолковского.
И здесь на картинке вы видите один из заброшенных корпусов этого Института мозга. Институт до сих пор существует в Москве. Он работает, но закрыт для доступа посторонним. То есть все эти мозги там хранятся и каким-то образом вроде бы еще исследуются, не совсем понятно, каким. Часть корпусов была заброшена, как мы видим. И я, когда некоторое время назад готовился к лекции, обнаружил эти мрачные фотографии.
И здесь на картинке вы видите один из заброшенных корпусов этого Института мозга. Институт до сих пор существует в Москве. Он работает, но закрыт для доступа посторонним. То есть все эти мозги там хранятся и каким-то образом вроде бы еще исследуются, не совсем понятно, каким. Часть корпусов была заброшена, как мы видим. И я, когда некоторое время назад готовился к лекции, обнаружил эти мрачные фотографии.
Проект авангардной музеологии и космистского музея продолжает жить как рабочая модель для деятелей современной актуальной культуры
И последнее. Я хотел закончить на слайде из фильма Антона Видокле «Бессмертие и воскрешение для всех», чтобы указать вам на то, что проект авангардной музеологии и космистского музея продолжает жить не только в форме страшных фотографий заброшенных корпусов музея мозга, но и в том числе, как рабочая модель для деятелей современной актуальной культуры.
Бессмертие и воскрешения для всех: Антон Видокле «Бессмертие и воскрешение для всех!», 2017 HD video. Камера: Ayman Nahle
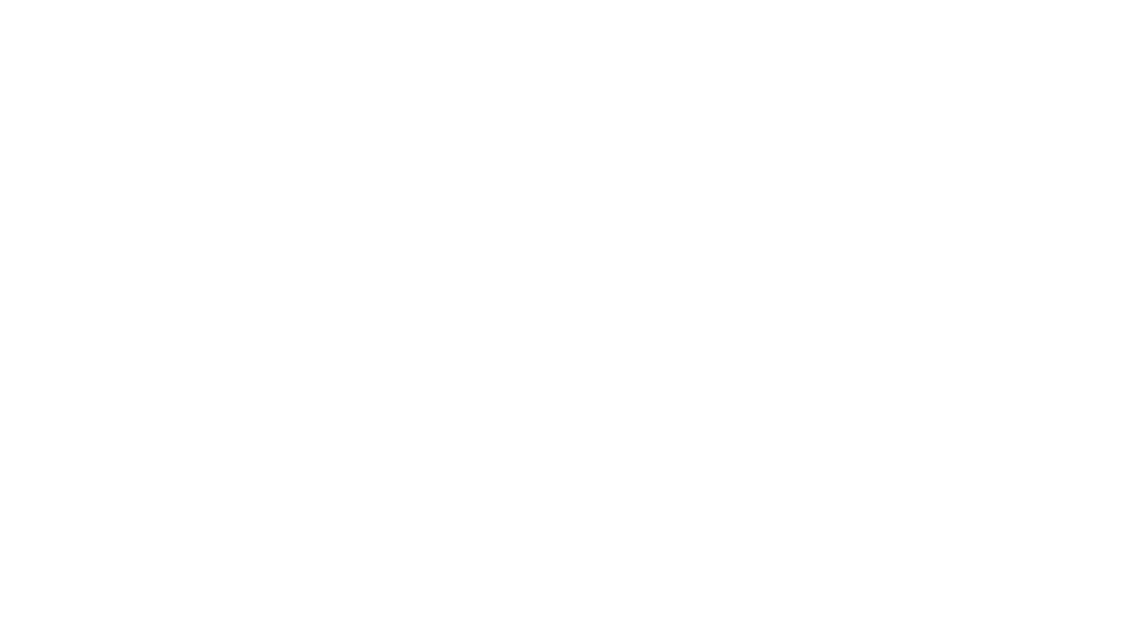
Хотите регулярно получать образовательные материалы «Среды обучения»? Подпишитесь на нашу рассылку! Отправляя свои контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
К ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ

