После получения заявки мы позвоним вам, чтобы ответить на вопросы, и помочь определиться с программой
Представитель приемной комиссии перезвонит в течение часа в рабочее время
Отправляя свои контактные данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение email-сообщений от Высшей школы «Среда обучения»
Отправляя свои контактные данные, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение email-сообщений от Высшей школы «Среда обучения»
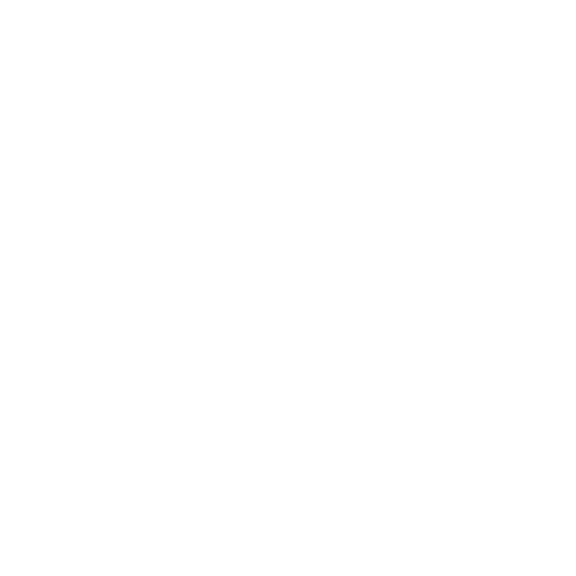
«В современном искусстве непонимание не менее важно, чем понимание»
Юрий Альберт о концептуализме, индивидуальном и групповом творчестве, об интеллектуальной природе современного искусства и о веселье — его необходимом компоненте.
21 февраля в рамках образовательного проекта «История Российского современного искусства в действующих лицах» художник и теоретик искусства Юрий Альберт предложил зрителям поразмышлять над тем, цитируя название одной из своих концептуальных работ, «Что хотел сказать художник?»
Посмотреть на это было практически невозможно, попасть в эту среду можно было только по случайности
«Где-то с конца 60-х в Советском Союзе понемногу развивалось явление, которое называлось по-разному: нонконформизмом, неофициальным искусством, или что-то еще подобное. Внутри него появились группировки, что-то было интересным, что-то было не очень интересным, но важно то, что все это было крайне замкнутое явление. Посмотреть на это было практически невозможно, вот так прийти, как вы сейчас ходите, было невозможно, и, собственно, попасть в эту среду можно было только по случайности. Каким-то образом они, как мотыльки, на свет друг друга все находили, но тем не менее никакой инфраструктуры не существовало.
И тем не менее к началу 70-х годов уже появилось третье поколение людей, занимающихся вот такого рода вещами, и это искусство вступило в пору какой-то саморефлексии. И существовало это в основном в Москве, потому что Москва была единственным городом, где просто можно было что-то узнать о западном искусстве, какие-то были библиотеки, иностранцы, которые иногда привозили какие-то книжки в букинистические магазины и так далее. Поэтому практически все неофициальное искусство было в Москве, немножко в Петербурге.
Но к 70-м годам эта критическая масса людей и произведений стала настолько большой или небольшой, но достаточной для того, чтобы появилась потребность осмыслить, чем, собственно, мы занимаемся. И к началу 70-х годов относится появление того течения, которое впоследствии было названо московским концептуализмом.
Сам концептуализм как художественное направление появился в середине 60-х годов в Великобритании и Америке. Этих людей тоже было довольно мало, и это было, можно сказать, последнее течение модернизма.
И тем не менее к началу 70-х годов уже появилось третье поколение людей, занимающихся вот такого рода вещами, и это искусство вступило в пору какой-то саморефлексии. И существовало это в основном в Москве, потому что Москва была единственным городом, где просто можно было что-то узнать о западном искусстве, какие-то были библиотеки, иностранцы, которые иногда привозили какие-то книжки в букинистические магазины и так далее. Поэтому практически все неофициальное искусство было в Москве, немножко в Петербурге.
Но к 70-м годам эта критическая масса людей и произведений стала настолько большой или небольшой, но достаточной для того, чтобы появилась потребность осмыслить, чем, собственно, мы занимаемся. И к началу 70-х годов относится появление того течения, которое впоследствии было названо московским концептуализмом.
Сам концептуализм как художественное направление появился в середине 60-х годов в Великобритании и Америке. Этих людей тоже было довольно мало, и это было, можно сказать, последнее течение модернизма.
Художники с каждым новым течением отказывались от выразительных средств, от изобразительности, от композиции, от картины как таковой, от содержания, от духовности
Модернистское искусство на Западе, начиная с импрессионизма, прошло долгий путь редуцирования. Художники постепенно и с каждым шагом, с каждым новым течением отказывались от каких-то выразительных средств, от изобразительности, от композиции, от картины как таковой, от содержания, от духовности и так далее. Все эти кажущиеся нам очевидными и необходимыми вещи подвергались сомнению.
Последнее течение перед концептуализмом был минимализм. Если вы знаете, это просто в основном такие геометрические повторяющиеся фигуры из промышленных материалов, какие-то такие железные или бетонные кубы, расставленные в определенном порядке по выставочному пространству. И к какому-то моменту оказалось, что теоретические основания такого искусства гораздо важнее, чем-то, что зритель видит.
Художники, которые это поняли, собственно, и стали концептуалистами. Они поняли, что идея уже может быть искусством. Она даже не нуждается в воплощении. И они стали выставлять такие вещи, как просто теоретические тексты в рамочке на стене, или пытаться передавать произведения искусства телепатическим путем зрителям, или подобные вещи, которые подвергали сомнению уже практически все, что можно было подвергнуть сомнению в искусстве. Это примерно середина 60-х годов, как я уже сказал. Такие художники, как Кошут, Art & Language, Ханс Хааке, Бюрен. То есть искусство практически дематериализовалось.
В нашей стране ситуация была немножко иной, потому что никакого модернизма, который можно было увидеть, в музеях не было. То, что можно было увидеть в музеях и в выставочных залах, это было либо классическое искусство старое, либо соцреализм, который в какой-то степени, хотя бы внешне, следовал классической традиции. Но художникам, которые занимались каким-то современным искусством, одновременно поступала какая-то информация с Запада. Она могла поступать в каком угодно виде: либо на непонятном языке, каталоги, в которых непонятно что нарисовано, потому что языков мало кто знал, либо разгромные статьи в советской прессе о том, до какого безобразия дошли на капиталистическом Западе и вот вместо картин выставляют консервные банки. Это могли быть даже карикатуры в журнале «крокодил», где изображалось, как художники рисуют ногами, опять же на этом растленном Западе. Эту информацию как-то хотелось осмыслить.
То есть художники, которые хотели заниматься чем-то подобным, должны были эту явно недостаточную информацию как-то систематизировать и объяснить самим себе, чем занимаются эти непонятные их коллеги на Западе и чем они сами пытаются тоже заниматься. И часть художников эти объяснения, эту рефлексию и сделала частью своего искусства. В начале 70-х годов эти художники: Илья Кабаков, в первую очередь, Комар и Меламид, Римма и Валерий Герловины, и еще несколько человек, группа «Гнездо» (Донской, Рошаль, Скерсис). Они стали делать искусство. В состав их произведений были включены и сами попытки объяснить, чем же они занимаются.
Последнее течение перед концептуализмом был минимализм. Если вы знаете, это просто в основном такие геометрические повторяющиеся фигуры из промышленных материалов, какие-то такие железные или бетонные кубы, расставленные в определенном порядке по выставочному пространству. И к какому-то моменту оказалось, что теоретические основания такого искусства гораздо важнее, чем-то, что зритель видит.
Художники, которые это поняли, собственно, и стали концептуалистами. Они поняли, что идея уже может быть искусством. Она даже не нуждается в воплощении. И они стали выставлять такие вещи, как просто теоретические тексты в рамочке на стене, или пытаться передавать произведения искусства телепатическим путем зрителям, или подобные вещи, которые подвергали сомнению уже практически все, что можно было подвергнуть сомнению в искусстве. Это примерно середина 60-х годов, как я уже сказал. Такие художники, как Кошут, Art & Language, Ханс Хааке, Бюрен. То есть искусство практически дематериализовалось.
В нашей стране ситуация была немножко иной, потому что никакого модернизма, который можно было увидеть, в музеях не было. То, что можно было увидеть в музеях и в выставочных залах, это было либо классическое искусство старое, либо соцреализм, который в какой-то степени, хотя бы внешне, следовал классической традиции. Но художникам, которые занимались каким-то современным искусством, одновременно поступала какая-то информация с Запада. Она могла поступать в каком угодно виде: либо на непонятном языке, каталоги, в которых непонятно что нарисовано, потому что языков мало кто знал, либо разгромные статьи в советской прессе о том, до какого безобразия дошли на капиталистическом Западе и вот вместо картин выставляют консервные банки. Это могли быть даже карикатуры в журнале «крокодил», где изображалось, как художники рисуют ногами, опять же на этом растленном Западе. Эту информацию как-то хотелось осмыслить.
То есть художники, которые хотели заниматься чем-то подобным, должны были эту явно недостаточную информацию как-то систематизировать и объяснить самим себе, чем занимаются эти непонятные их коллеги на Западе и чем они сами пытаются тоже заниматься. И часть художников эти объяснения, эту рефлексию и сделала частью своего искусства. В начале 70-х годов эти художники: Илья Кабаков, в первую очередь, Комар и Меламид, Римма и Валерий Герловины, и еще несколько человек, группа «Гнездо» (Донской, Рошаль, Скерсис). Они стали делать искусство. В состав их произведений были включены и сами попытки объяснить, чем же они занимаются.
Искусство — не 200 грамм пигмента на грязной тряпке. Это что-то, что возникает между зрителем и объектом на стене, то ли в мозгу зрителя
Я вообще очень люблю ходить в музеи до сих пор, хотя не очень понятно, зачем, потому что все можно увидеть в книжках на репродукциях, сейчас и в интернете. Но вот что-то такое есть в музеях. Я всегда говорю, что искусство — это не 200 грамм пигмента на грязной тряпке. Это что-то, что возникает между зрителем и этим объектом на стене, то ли в мозгу зрителя, то ли между. Я попытался законсервировать вот это. Я просто набрал воздух из Третьяковской галереи и законсервировал воздух музея, то, что называется, музейная атмосфера. Вот она хранится с 1979 года.
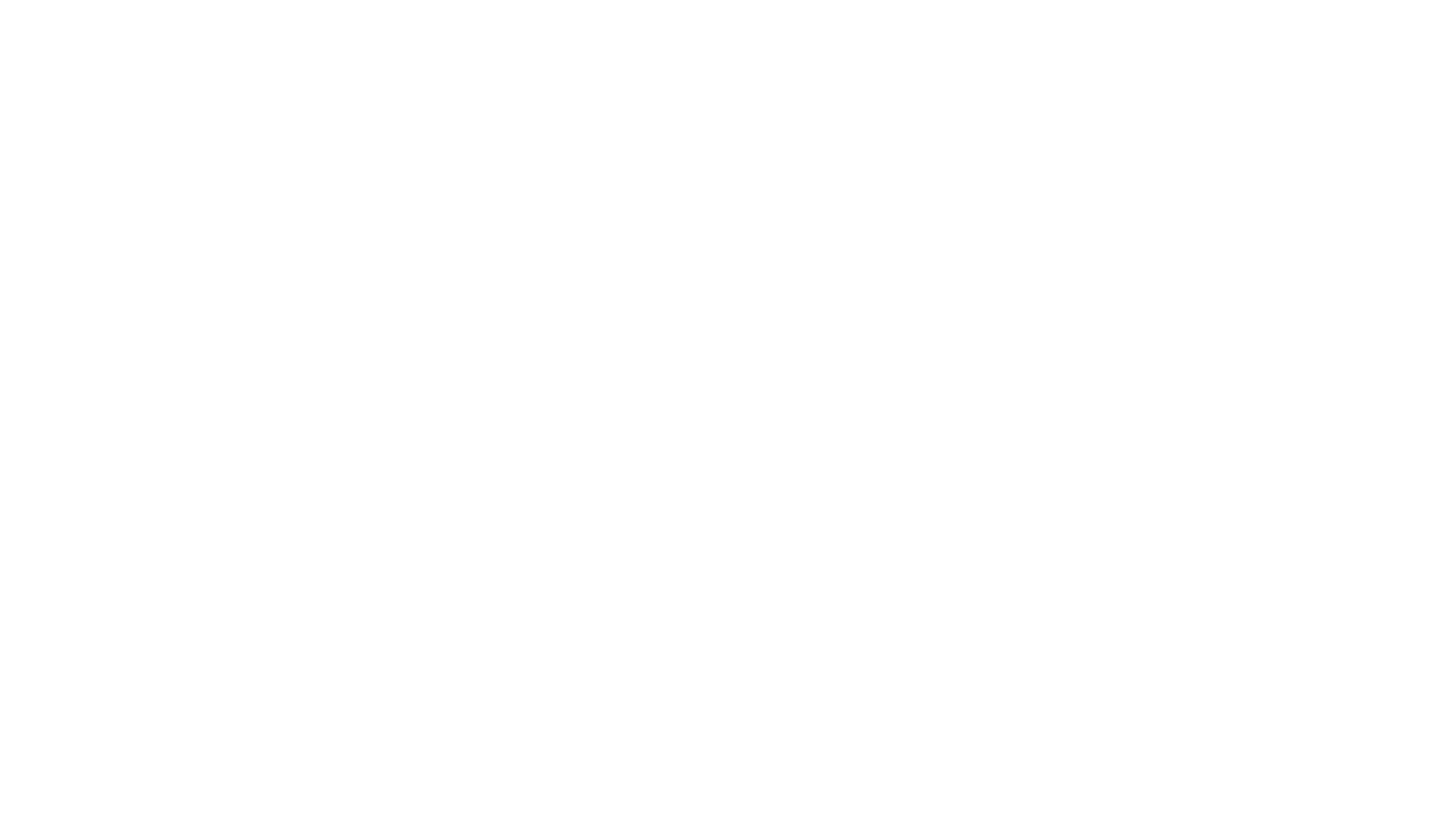
Другая работа, наверное, может быть, самая моя первая работа. Все мы верим, что художники своим искусством несут в мир какое-то добро, тепло, вообще делают что-то хорошее. Я попытался представить, как я могу это сделать, и я решил, что, так как я все равно выделяю тепло в атмосферу, я буду его выделять с пользой для окружающих, отдам его людям. Вот, собственно, в этом и заключалось мое произведение искусства.
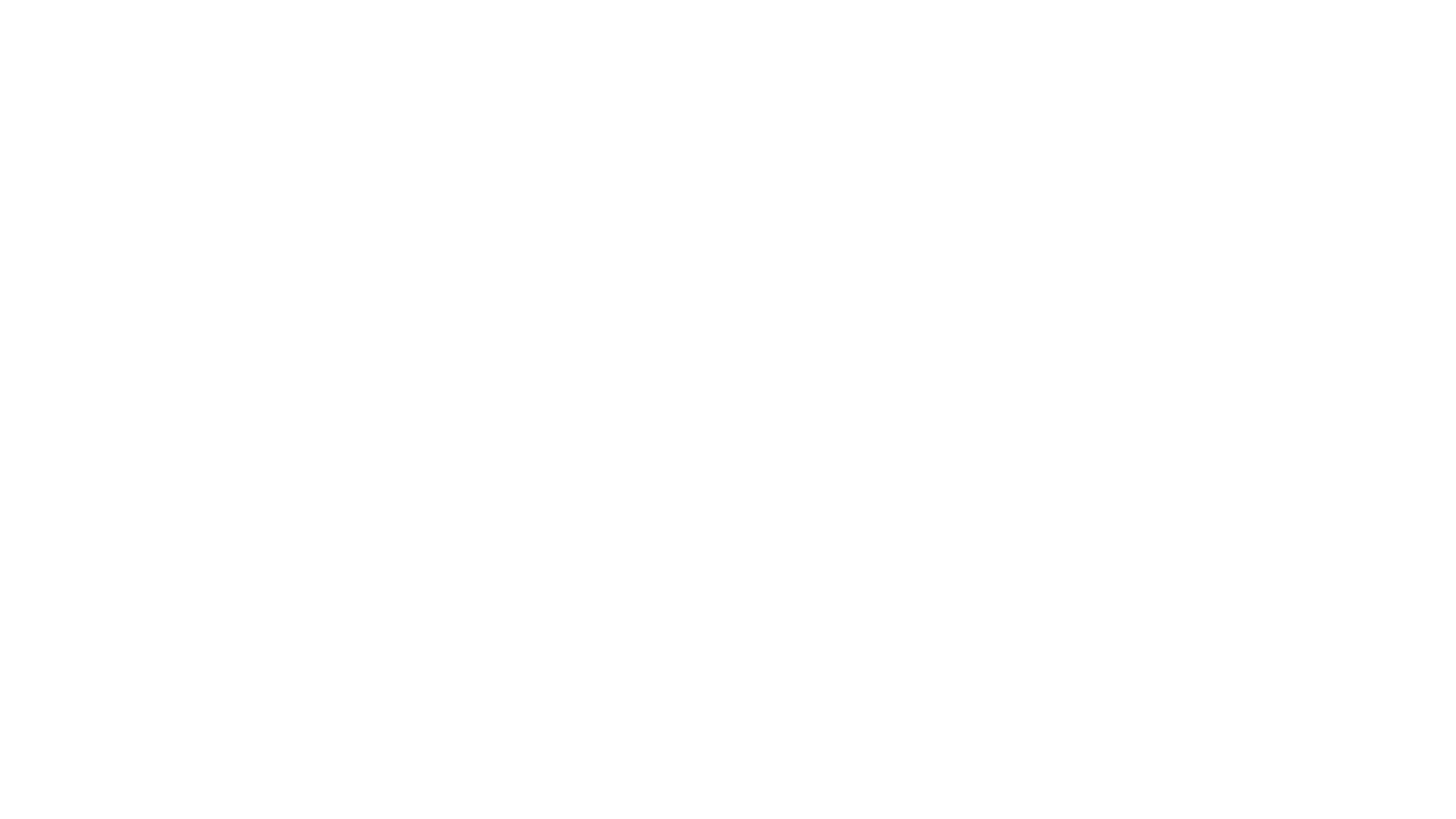
Была попытка помочь людям посредством искусства. Я распространял среди знакомых бланки заказов. Можно было вызвать художника на дом, и он тогда убирал, мыл пол, можно было послать за хлебом или посидеть с детьми
Но была еще одна попытка помочь людям посредством искусства, и я думаю, что это был первый проект такого социального искусства в нашей стране. Я просто как художник распространял среди знакомых бланки заказов. Можно было вызвать художника на дом, и он тогда убирал, мыл пол, можно было послать за хлебом или посидеть с детьми, такая помощь по хозяйству. Примерно в течение двух лет этот проект длился, и какое-то количество я осчастливил, помог своим искусством.
И вы видите, здесь тоже этот метод моделей и их реализация. Представим себе, что искусство — это то-то и то-то. Что получится?
И вы видите, здесь тоже этот метод моделей и их реализация. Представим себе, что искусство — это то-то и то-то. Что получится?
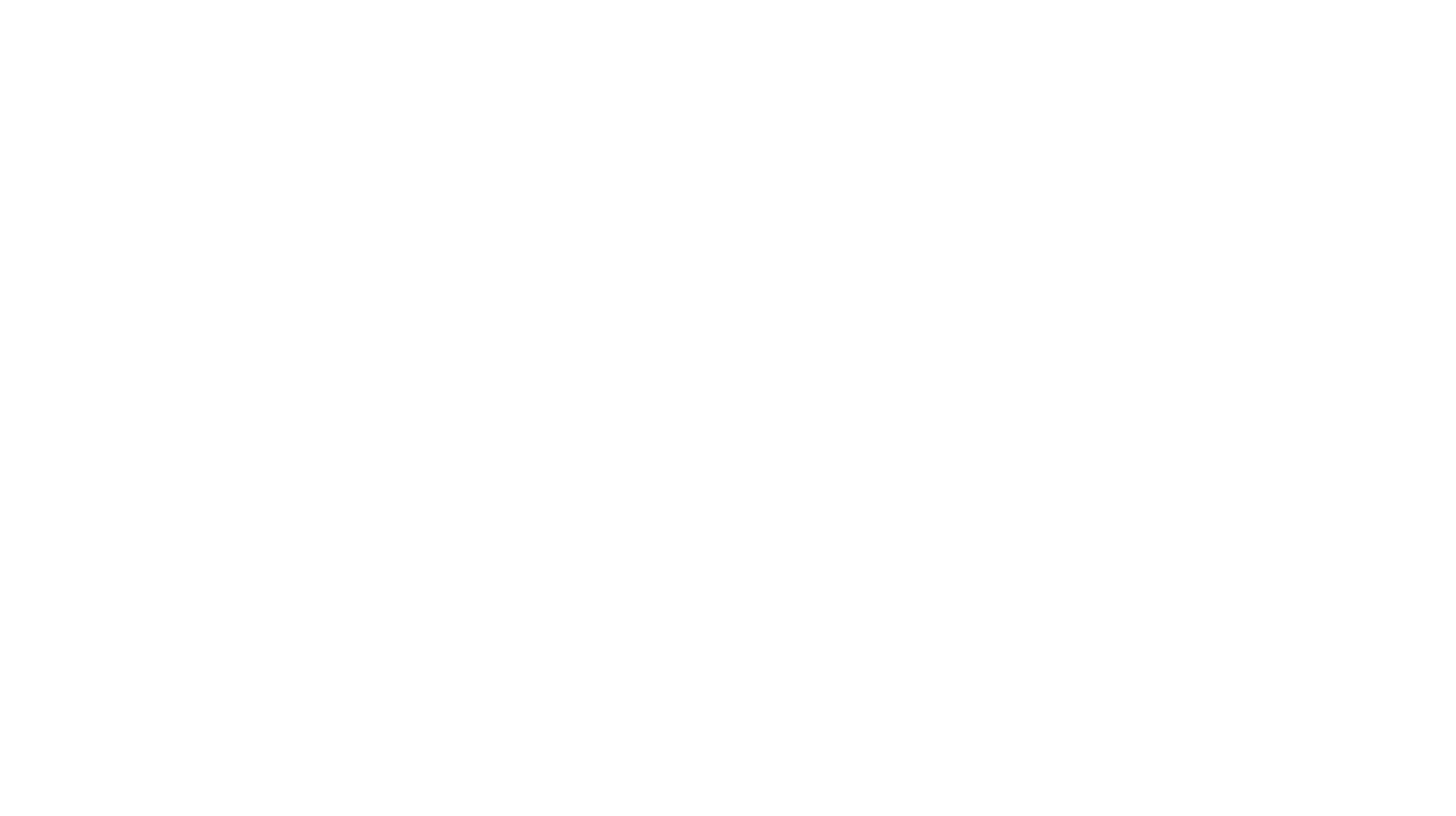
Потом я пытался делать такие текстовые работы. Там тексты такие. Первый текст был такой: «Приму в подарок работы таких-то художников» и список тех художников, чьи работы я бы хотел получить в подарок. Или: «я работаю под влиянием таких-то и таких-то художников», «Приходите в гости, я буду рад показать вам свои работы», «Я влияю на таких-то и таких-то художников», «В моей работе наступил кризис, я смущен, растерян и не знаю, что теперь делать» и так далее.
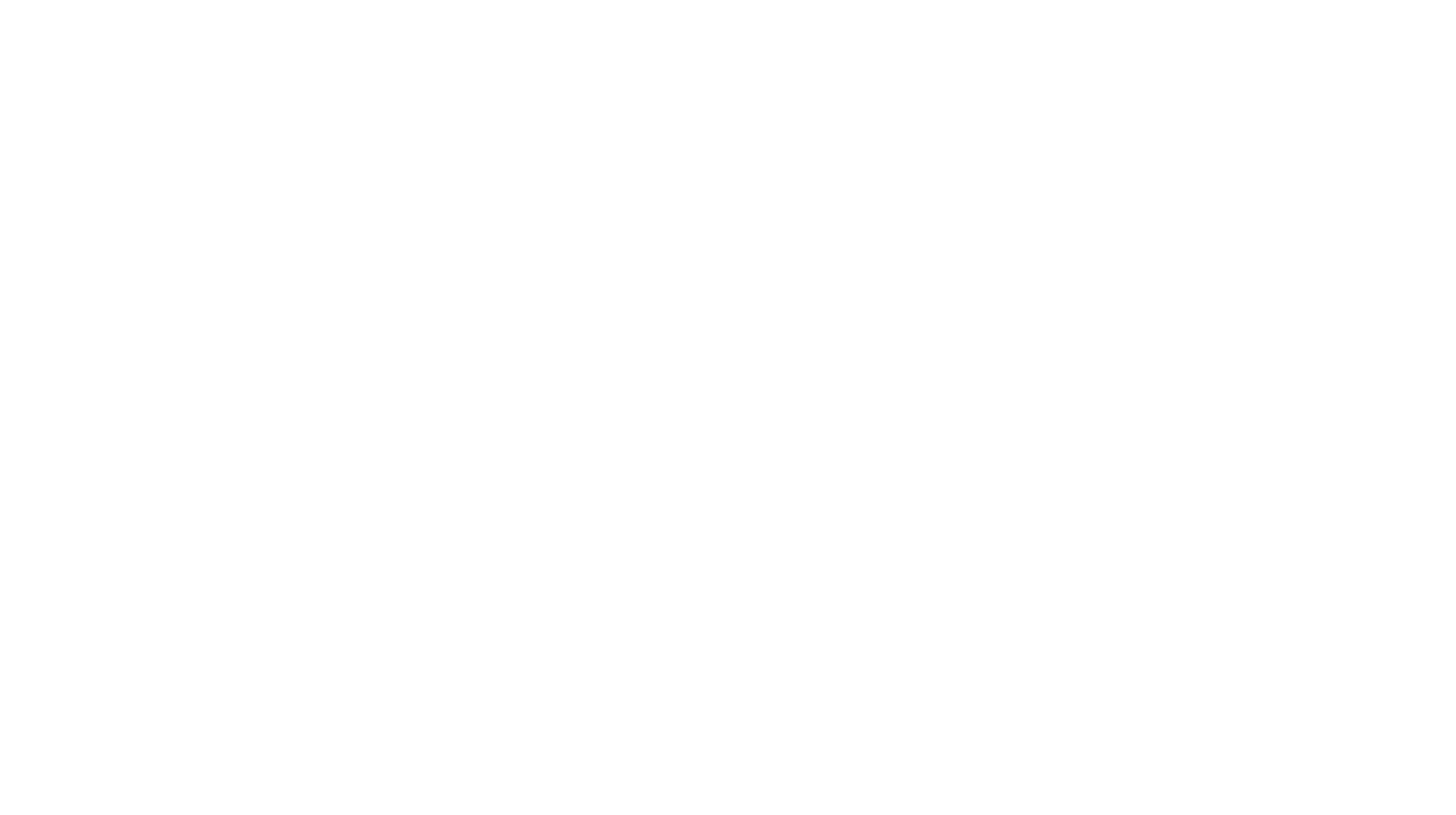
Я подумал, что искусство — это не объекты какие-то или их носители, авторы, художники, а то, что между этими объектами и зрителями происходит: какие-то отношения, влияния, заимствования, плагиат и так далее и так далее, и я пытался делать такие вещи, такие произведения, которые сразу бы были бы отношениями, а не объектами.
Когда вы видите перед собой текст, на котором написано «Приму в подарок работы таких-то художников», вам не приходит в голову, что это само есть произведение искусства, а вы пытаетесь себе представить те произведения, которые эти художники могли бы подарить художнику Юрию Альберту: Булатов, Кабаков, и вот перед вашим мысленным взором проходят эти воображаемые работы.
Или вы читаете текст «Приходите в гости, я буду рад показать вам свои работы», и вы думаете, что вы приедете в гости и там-то уж вы увидите настоящие работы, а вы придете в гости, и, собственно, эти работы вы и увидите, но что-то у вас в голове промелькнет.
Или: «Я влияю на таких-то художников». Как я на них влияю? Вы начинаете себе как-то представлять, особенно если вы знаете этих художников, начинаете себе представлять, как они на меня или я на них могли бы повлиять, но никаких продуктов этого влияния вы не видите. То есть я пытался сразу выстроить отношения, а не создавать окончательные произведения.
Когда вы видите перед собой текст, на котором написано «Приму в подарок работы таких-то художников», вам не приходит в голову, что это само есть произведение искусства, а вы пытаетесь себе представить те произведения, которые эти художники могли бы подарить художнику Юрию Альберту: Булатов, Кабаков, и вот перед вашим мысленным взором проходят эти воображаемые работы.
Или вы читаете текст «Приходите в гости, я буду рад показать вам свои работы», и вы думаете, что вы приедете в гости и там-то уж вы увидите настоящие работы, а вы придете в гости, и, собственно, эти работы вы и увидите, но что-то у вас в голове промелькнет.
Или: «Я влияю на таких-то художников». Как я на них влияю? Вы начинаете себе как-то представлять, особенно если вы знаете этих художников, начинаете себе представлять, как они на меня или я на них могли бы повлиять, но никаких продуктов этого влияния вы не видите. То есть я пытался сразу выстроить отношения, а не создавать окончательные произведения.
Следующая серия называлась «Я не». Вообще это такое странное амбивалентное состояние. Каждый художник, особенно молодой, хочет, во-первых, примкнуть к какой-то традиции, к какой-то команде себя причислить, а с другой стороны, художники же обычно страшно переживают, что их сочтут неоригинальными. И вот на этом мотиве сделана эта серия. Я использовал стили или отличительные признаки работ известных художников, с тем, чтобы вставить в эти работы отрицание.
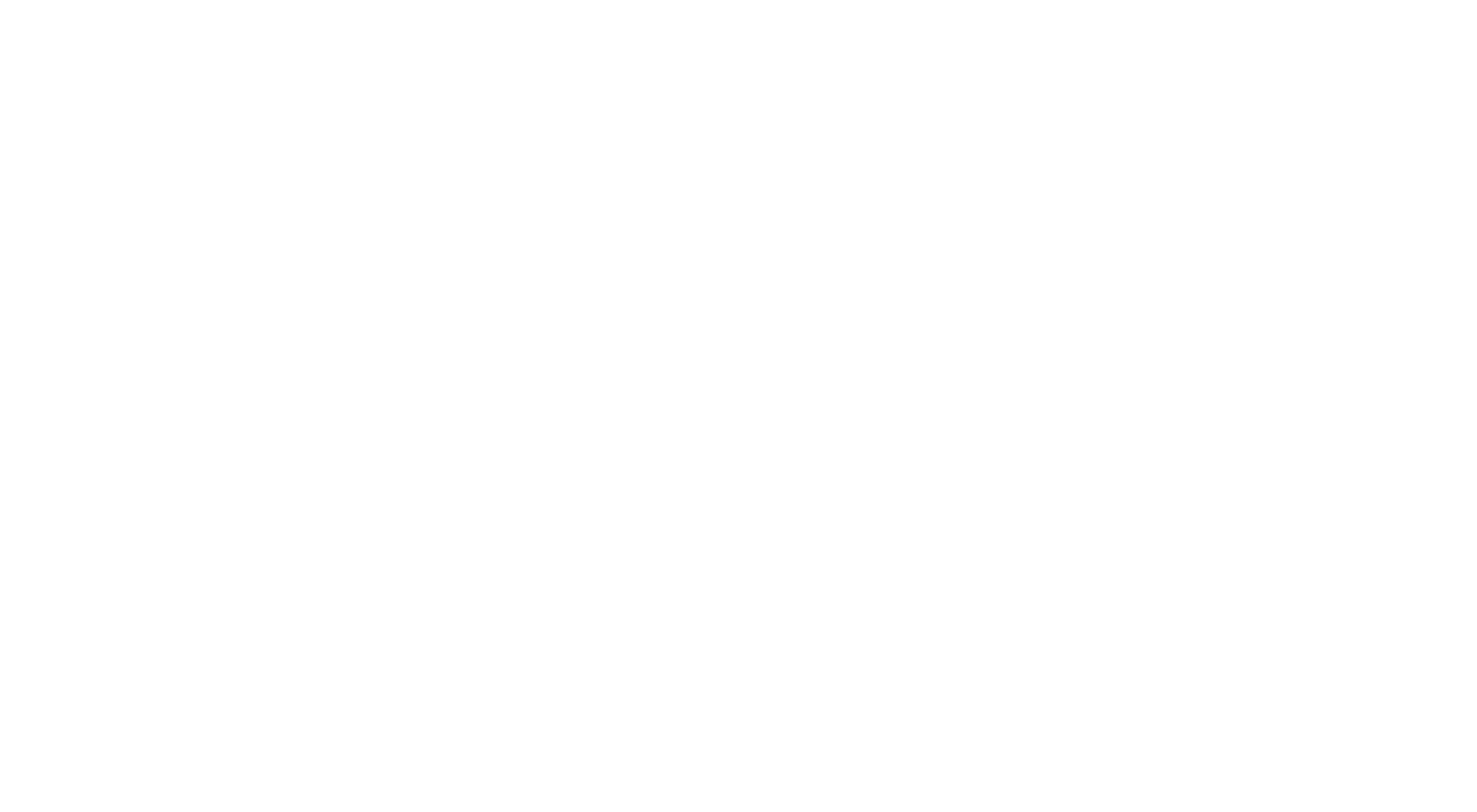
В стиле, очень условно, Джаспера Джонса написано «Я не Джаспер Джонс», в стиле Кабакова написано «Я не Кабаков». У Кабакова такая была работа, где с левой стороны была биография некоего Собакина (родился, учился, женился и так далее), а с правой стороны была нарисована собака, и весь этот Собакин таким образом уравновешивался вот этой собачкой. Я вот сделал «Я не Кабаков», а кабачок, нарисовал кабачок.
«Я не Базелиц». Вы понимаете, у Базелица все работы вверх ногами, перевернуты его картины, поэтому «Я не Базелиц».
«Я не Базелиц». Вы понимаете, у Базелица все работы вверх ногами, перевернуты его картины, поэтому «Я не Базелиц».
«Я не Вадим Захаров». Эти повязки на глазах. У Вадима Захарова был тогда долгоиграющий проект в начале 80-х. Он несколько лет, наверное, на все тогдашние тусовки, но это в основном на квартирах, естественно, все было, приходил с глазом завязанным, как пират, и никто толком не знал, то ли у него что-то с глазами не то, то ли это такой перформанс, потому что он никаких объяснений не давал. Просто приходил. Потом все привыкли: вот Захаров ходит с завязанным глазом. Никто толком не знал, почему. Ну, а я завязал оба глаза, и, как оказалось, и вы потом увидите, это оказалось пророческим по отношению к моим другим произведениям.

И это совсем простенькое. Я не Энди Уорхол, я не Лихтенштейн. Я взял известную работу Лихтенштейна. Я только заменил там текст.
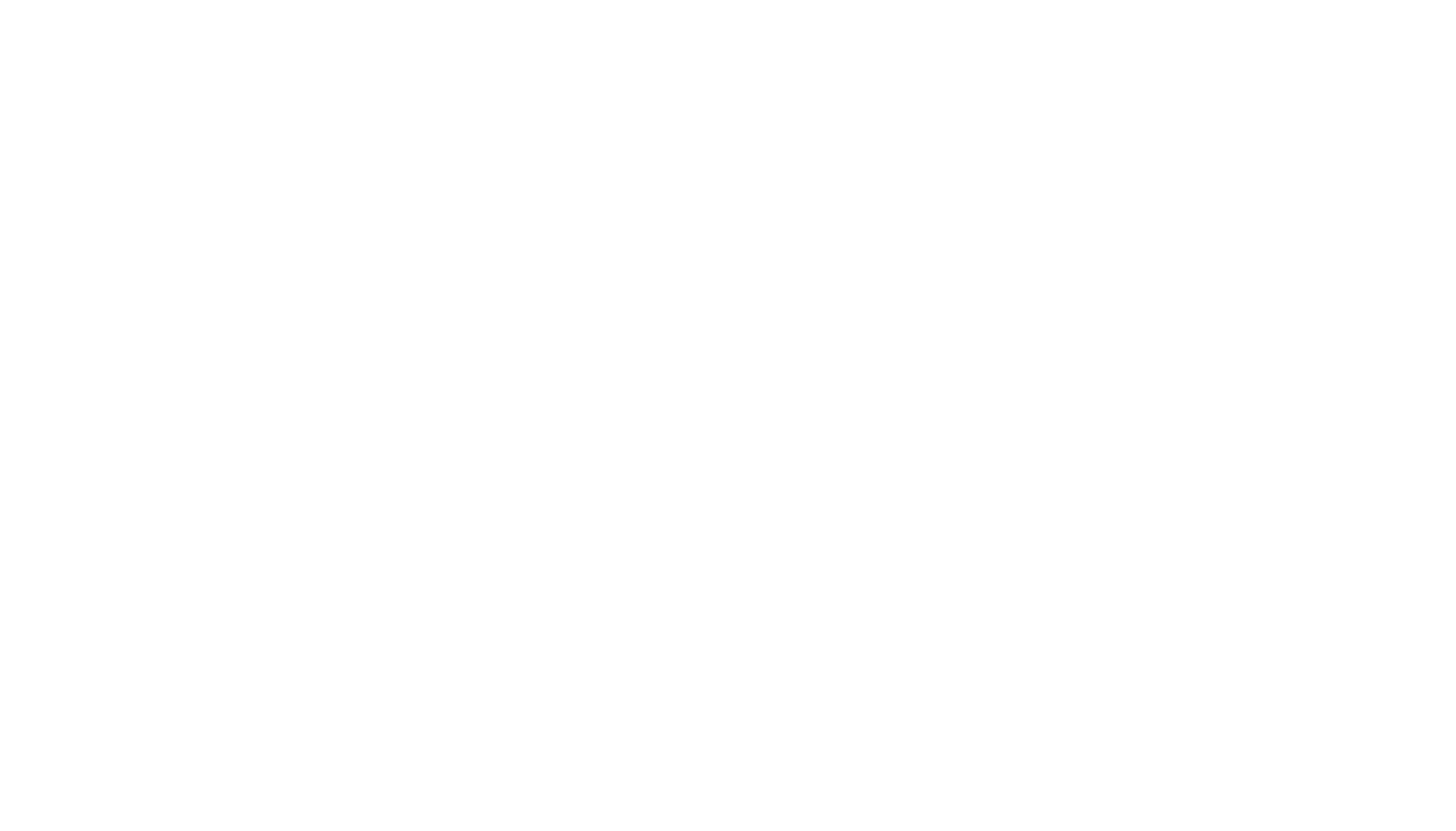
Идея была в том, что все, что художник назовет искусством, искусством не является. Воля художника важнее любых формальных или морфологических признаков
Следующий большой проект, в каком-то смысле направленный против Марселя Дюшана. Дюшан и после него стали художники таскать в искусство всю гадость, всякие объекты, писсуары, консервные банки и так далее. И идея была в том, что все, что художник назовет искусством, искусством не является. Воля художника важнее любых формальных или морфологических признаков.
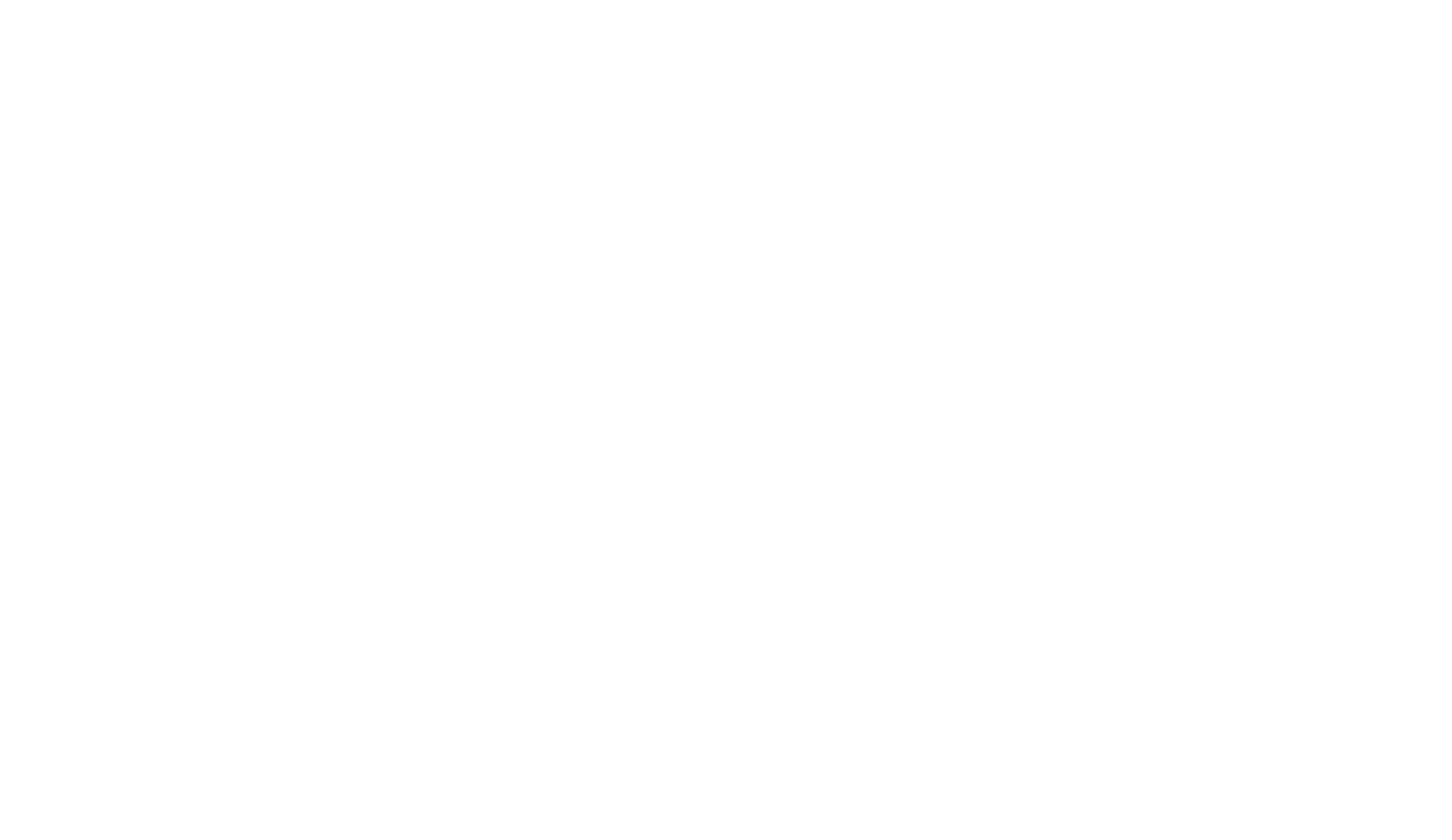
Я попытался зайти с другой стороны и сделать такие работы, которые, несомненно, были бы произведениями искусства, но не потому, что я их назначил произведениями искусства, а потому что ни на что другое они не годятся, то есть ничем другим они быть не могут. И мы видим, что это картинки, что это холст, масло, что везде изображены какие-то персонажи, которые рисуют и пишут, и что в отличие от, скажем, дюшановского писсуара, который можно вернуть обратно в туалет, эти картинки больше ни на что, как быть искусством, не годятся, несмотря на то, что они довольно плохие, скажем так.
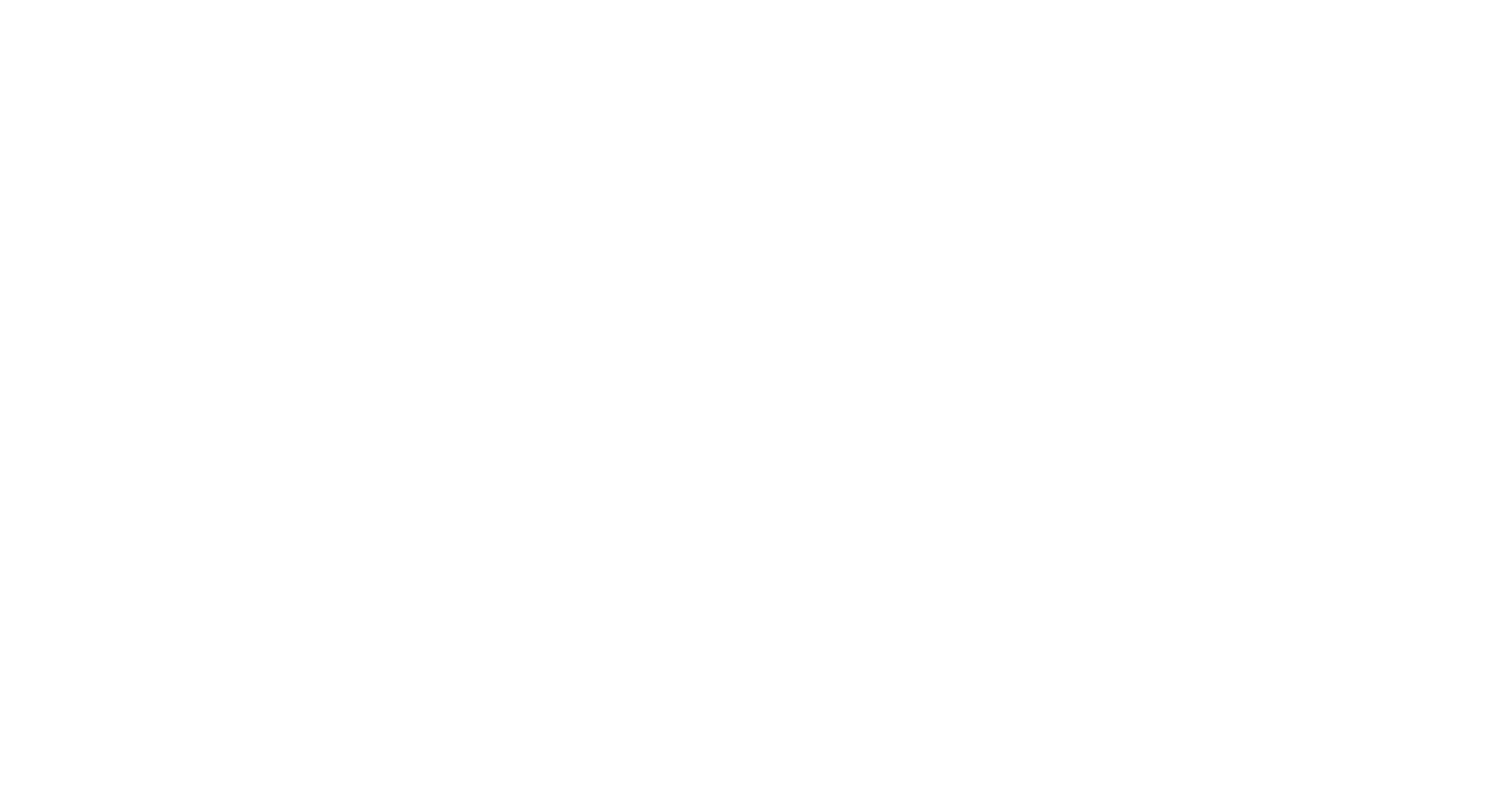
Ну, а персонажи — это из каких-то детских книжек, из карикатур, из журналов и так далее. Вот этот карандаш — это был такой журнал «Веселые картинки», и в нем был персонаж Карандаш. Он был такой замечательный художник, что все, что он этим своим носом нарисует, просто оживало, становилось живым. Он был прекрасным реалистом. Это частично обработанные, частично необработанные, просто перенесенные на холст картинки из детских книжек. Никакого особенного творчества там нет.
Следующий этап. Надо сказать, что я начал примерно в 1978−79 году этим заниматься. Как я говорил, такого рода искусство было практически запрещено и приравнено к распространению наркотиков. То есть это только в узком кругу люди между собой и так далее. Но после Перестройки появились первые легальные большие выставки, с большой рекламой, люди в очереди стояли, чтобы посмотреть ее сами. Создалась новая ситуация, потому что до этого моими зрителями были мои знакомые, то есть зритель такого рода искусства был обычно только человек, который сам что-то подобное делает, или его жена, подруга, приятель и так далее. То есть это был очень узкий круг, и в принципе можно было вообще ничего не делать. Можно было позвонить тому же Вадиму Захарову и сказать, что я придумал такую замечательную инсталляцию, все ему рассказать, после чего все состоялось, можно было ничего не делать, потому что единственный зритель так все это хорошо понимал, что ему не нужно было материального воплощения.

В 1986 году ситуация изменилась. Появилась массовая публика, которую я себе даже не мог представить. Это были люди с другим социальным опытом, другого социального круга. На выставках получалось так, что очень маленькая группка людей, которая все понимает и удовлетворенно улыбается, и ходит большая толпа людей, которая возмущенно спрашивает, а что это такое, а искусство ли это вообще, а рисовать-то вообще умеете и так далее и так далее. И, с одной стороны, конечно, это грело самолюбие, что мы такие, знаем то, чего не знает никто. Но, с другой стороны, в этом какая-то была и ущербность, потому что я считаю, что зритель, в общем, ничем не хуже художника, что привилегии художника не заслужены. Поэтому я попытался перевернуть эту ситуацию и сделал большой проект, который назывался «Элитарно-демократическое искусство». Представьте себе, человек приходил на выставку и видел эту картину. Это довольно здоровая картина, полтора на три метра, которая выглядит как абстракция, живопись действия, action painting. И, собственно, профессионалы, те немногие профессионалы, которые ходили тогда на выставки, они так это и понимали. Они думали, что это абстрактные картины. Вот еще подобная картина.
Но если бы на эту выставку случайно зашла секретарша, которая знает стенографию… Знаете, что такое стенография, да? Это способ быстро записывать значками, вместо магнитофона протоколы вели секретарши. Если секретарша зайдет, только она поймет, что это никакая не абстракция, а текст, записанный стенографией. На желтом написано: «Я люблю современную живопись», а на нижнем — «Искусство вместо искусства». Собственно, вот таким образом только эта случайно забредшая секретарша и будет той элитой, для которой предназначено это искусство, а вовсе не искусствоведы и художники.
Но если бы на эту выставку случайно зашла секретарша, которая знает стенографию… Знаете, что такое стенография, да? Это способ быстро записывать значками, вместо магнитофона протоколы вели секретарши. Если секретарша зайдет, только она поймет, что это никакая не абстракция, а текст, записанный стенографией. На желтом написано: «Я люблю современную живопись», а на нижнем — «Искусство вместо искусства». Собственно, вот таким образом только эта случайно забредшая секретарша и будет той элитой, для которой предназначено это искусство, а вовсе не искусствоведы и художники.
А это такая же живопись для моряков. Вы думаете, что это геометрическая абстракция, но если бы среди вас был бы моряк, он бы понял, что это флаговая надпись, и он бы смог ее понять, прочесть.
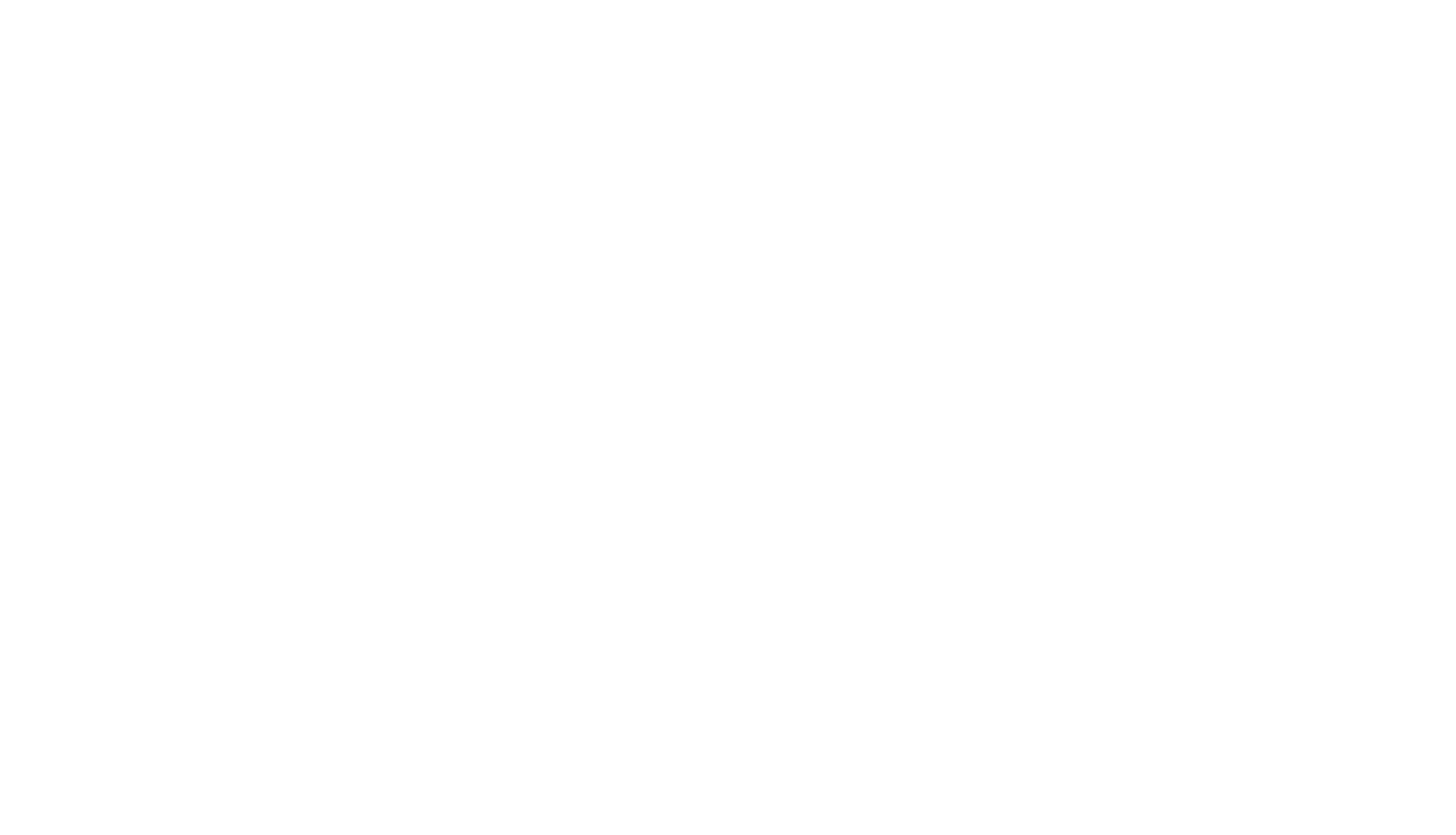
Это искусство для глухонемых. И что важно, что это все похоже на настоящее искусство. Это похоже скорее на документацию перформанса, фотодокументацию. Здесь жестовой азбукой глухонемых сказаны разные фразы про говорение, про язык. Например, «Что этим хотел сказать художник», или «Мне так много надо сказать своим искусством», или вот на самой длинной написано: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Это цитата из философа Витгенштейна, и довольно, надо сказать, комплементарная по отношению к глухонемым фраза, потому что именно глухонемые, потенциальные зрители этой работы, молчать они умеют лучше всего.
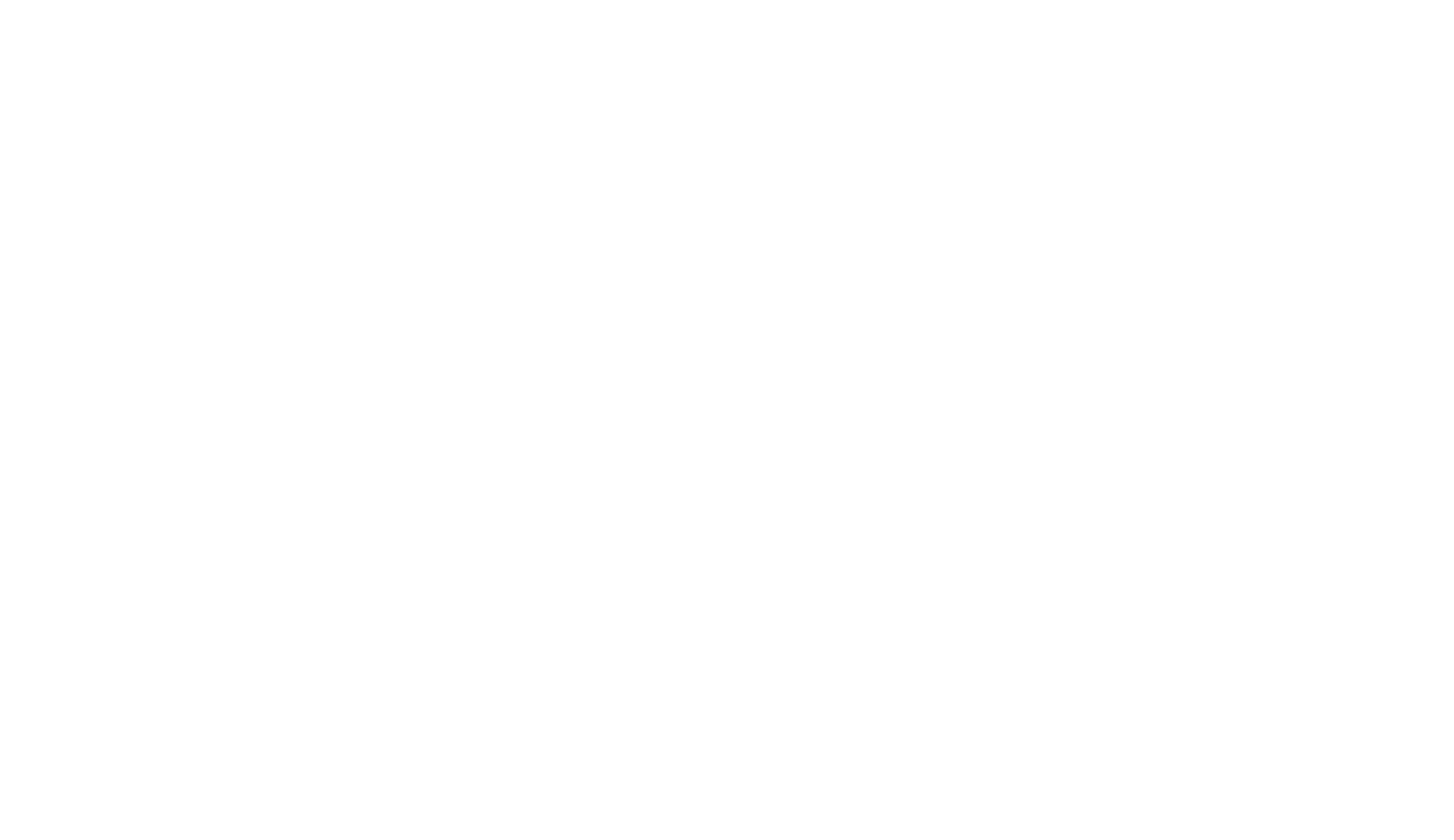
И вот живопись для слепых. Это тоже довольно большие планшеты, один метр двадцать сантиметров на два, и разные фразы в основном про зрение. Например: «В моих работах вы не увидите ничего, кроме любви к искусству» или «Все, что вы видите на моих работах, не имеет никакого значения». И самая, я бы сказал, такая фраза, может быть, обидная для потенциальных зрителей, это «Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать».
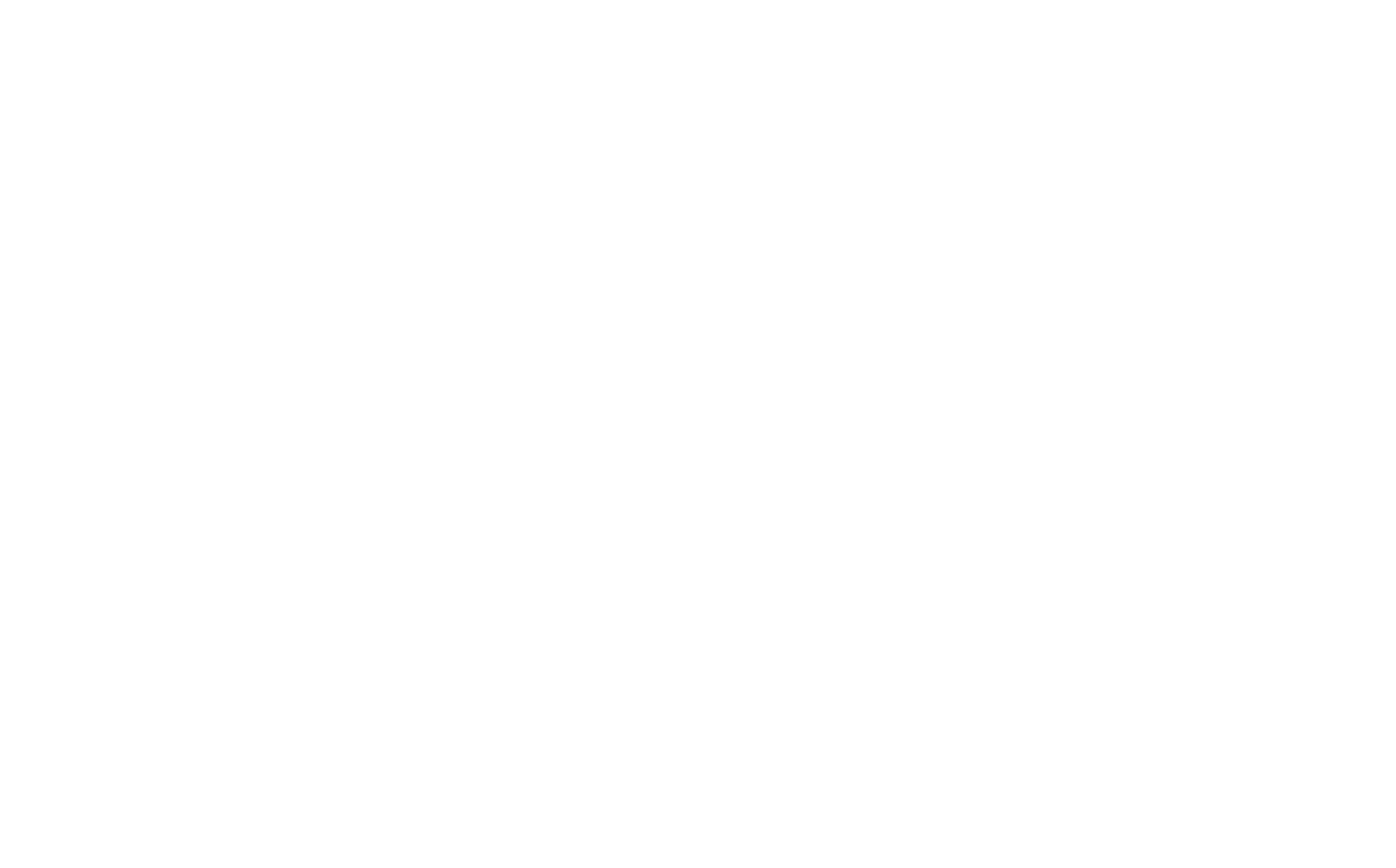
Cуществует только современное искусство, и современное искусство — это совсем не то же самое, что «настоящее»
Автопортрет в костюмчике художника. Я же все время мечтал стать настоящим художником. Как я уже сказал, когда я начинал, я мечтал стать настоящим художником, как Ван Гог, или, как Модильяни, или, как Рембрандт: может быть, сначала непризнанным, но упорно делающим свое высокое дело и потом, после смерти, может быть…
Но оказалось, что уже никакого настоящего искусства нет и быть не может, а существует только современное искусство, и современное искусство — это совсем не то же самое, что «настоящее».
Но оказалось, что уже никакого настоящего искусства нет и быть не может, а существует только современное искусство, и современное искусство — это совсем не то же самое, что «настоящее».
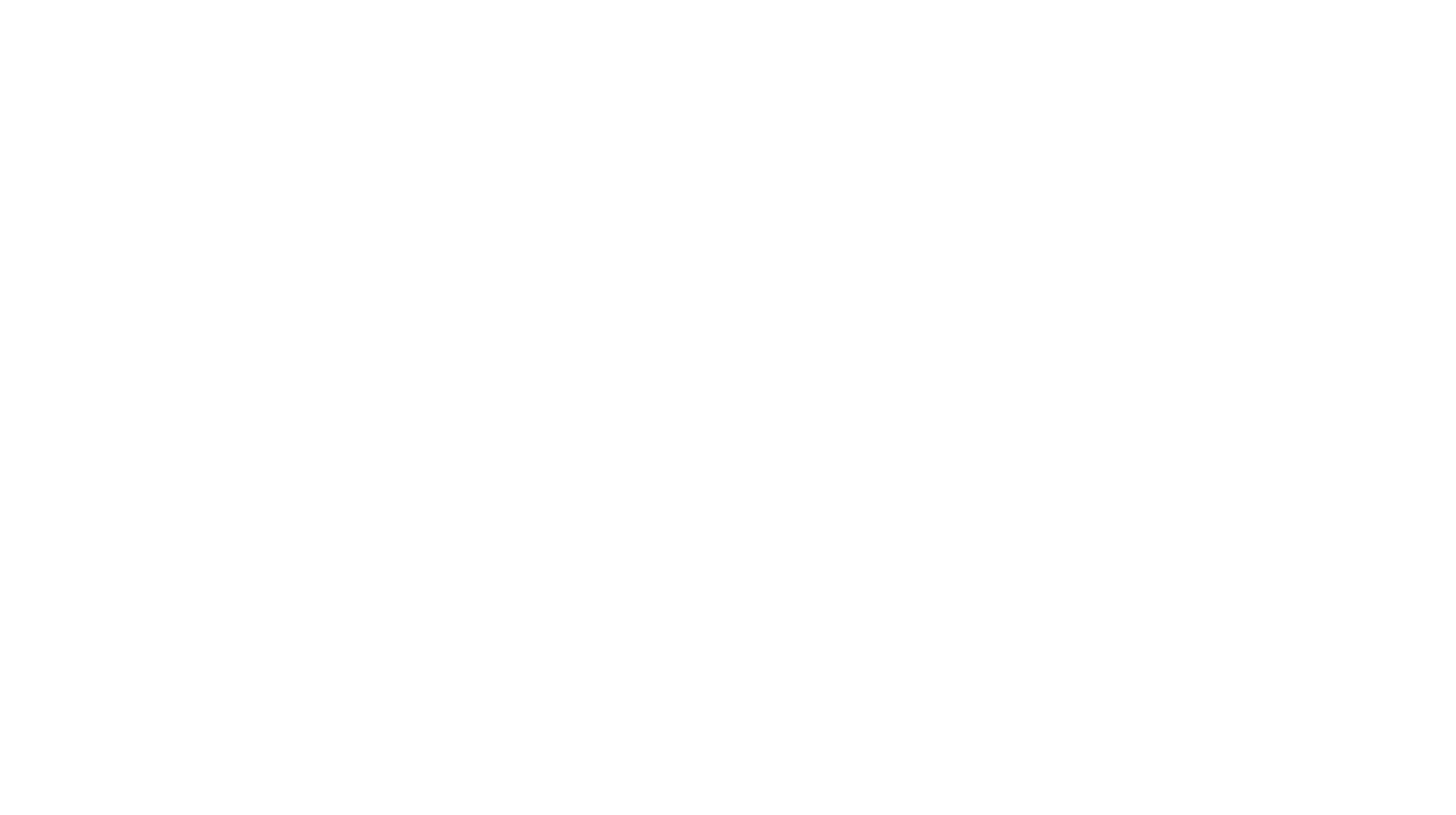
Вот это, то, что внизу, — это настоящее искусство. И на этой идее и построен следующий проект, который называется «Мама, смотри, художник». В мае 1990 года Андрей Ерофеев организовал первый в России фестиваль перформансов.
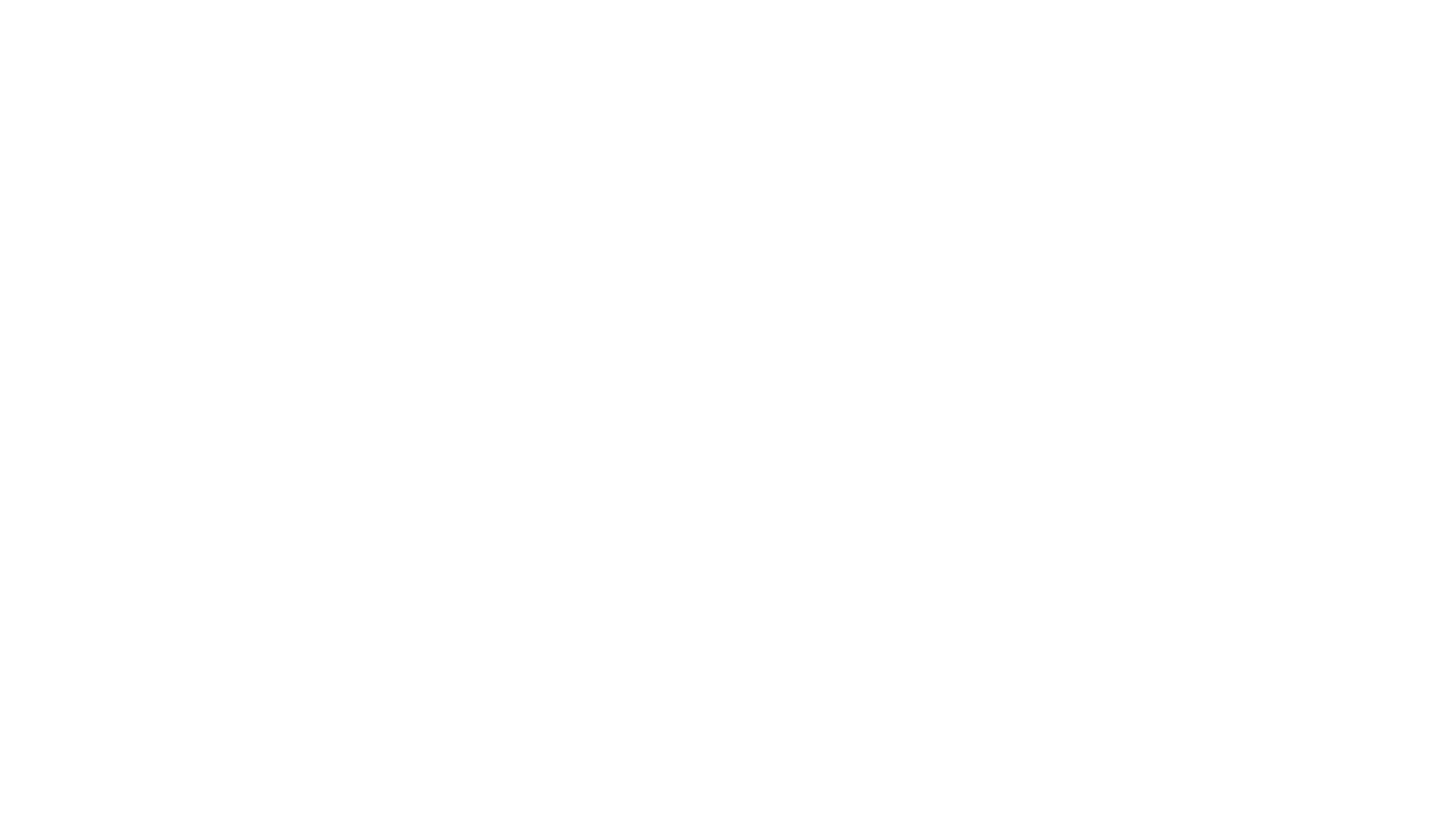
Я как бы присвоил себе биографию этого замечательного монгола и все его депрессивное занудство этих писем. Дальше я переписывал еще письма Сурикова, письма Камиля Писсарро, письма Рубенса и так далее. Таким образом, это, с одной стороны, такая трудотерапия, и одновременно и попытка приблизиться к этим великим мастерам, и одновременно наказание за то, что ты сам не такой, за то, что ты занимаешься каким-то современным искусством, а вовсе не настоящим, потому что переписывать это, как наказание такое школьное, или, как в монастырях переписывали по много раз какие-то молитвы, чтобы искупить грехи.
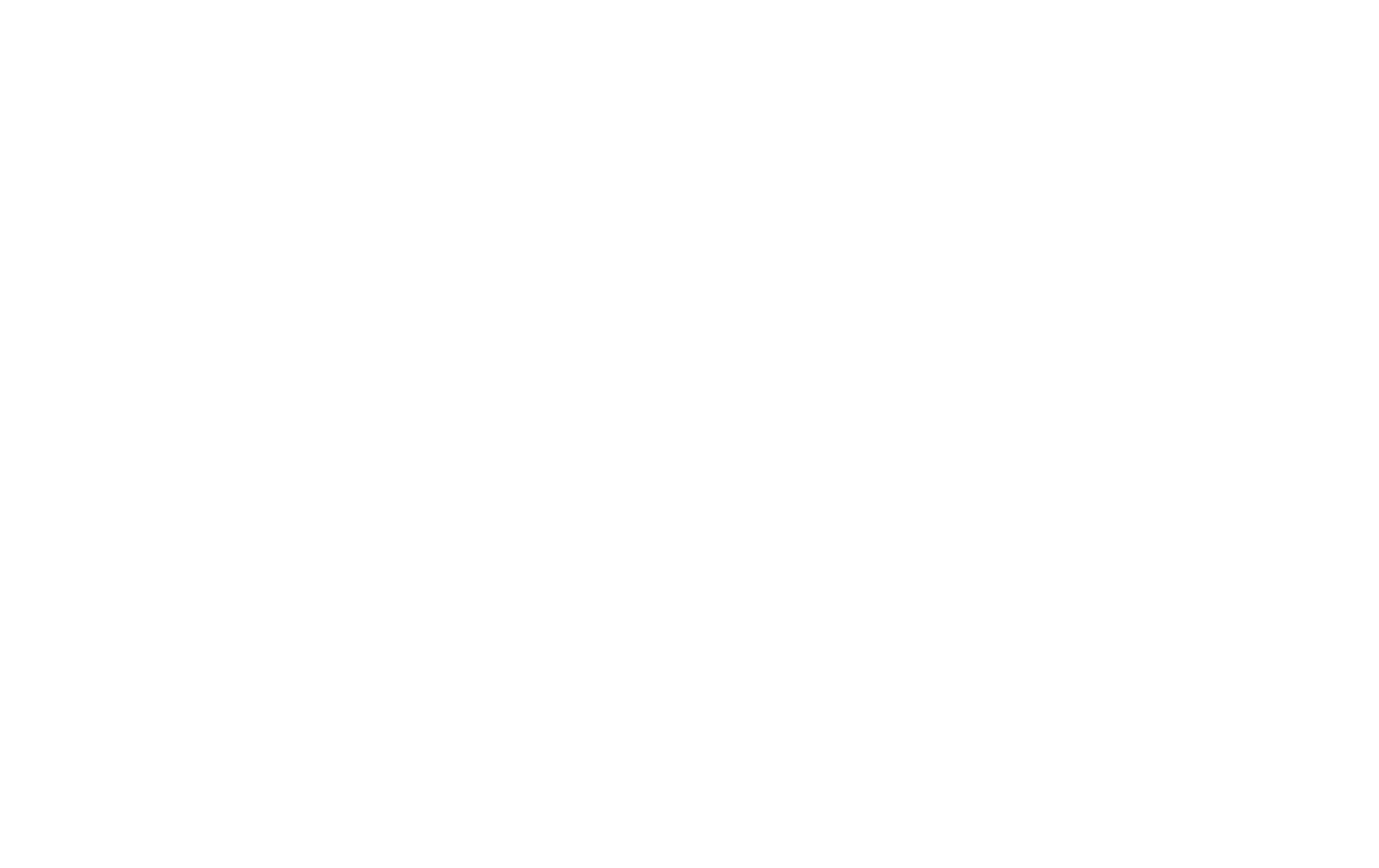
Взаимное непонимание и было тем результатом, которого я добивался
Проект, который называется «Автопортрет с закрытыми глазами». Он был выставлен в Мюнхене в 1995 году. Как вы видите, большинство моих инсталляций изображают какие-то выставки, выглядит, как выставка таких белых абстрактных небольших картин. Те, кто подходили поближе, видели, что эти картины покрыты такими пупырышками и что это тексты на языке для слепых, шрифтом Брайля. Никаких объяснений не было. Таблички под этими картинками тоже были написаны шрифтом Брайля. И, собственно, если вы не являетесь незрячим, вы ничего понять не могли понять.
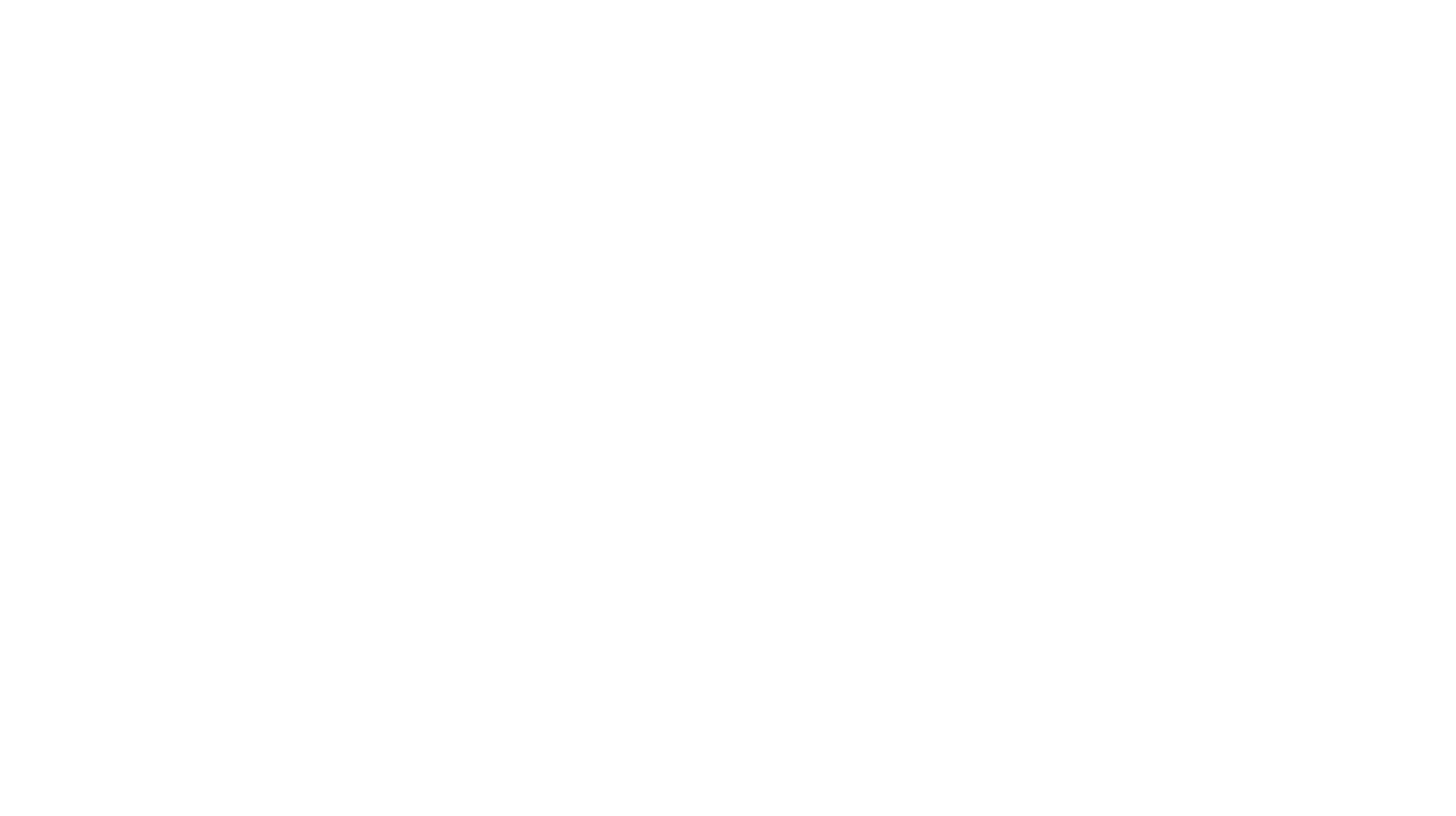
Но вам по секрету я могу сказать, что на каждой из этих картин шрифтом Брайля были набраны цитаты из писем того же Ван Гога, те цитаты, где он описывает конкретные картины, то есть каждая из этих картинок была описанием одной из картин Ван Гога, сделанным им самим. То есть такая выставка Ван Гога для слепых.
Предполагалось на открытие пригласить одновременно и профессиональную публику, то есть художников, кураторов, коллекционеров и так далее, и слепых. И ясно, что вся профессиональная публика может понять весь контекст, все игры с означающим, означаемым, с образом абстрактных картин, игры с понятностью и непонятностью и так далее. Единственное, что они не могут, — прочесть этот текст и понять, что на этих картинках. Слепые же могут прочесть эти тексты, но совершенно не могут понять контекста, потому что просто они нечасто ходят на выставки современного искусства. И каждая из этих групп будет чувствовать, что она чего-то важного не понимает, и завидовать друг другу.
То есть, собственно, вот это непонимание, взаимное непонимание и было тем результатом, которого я добивался, потому что в современном искусстве непонимание не менее важно, чем понимание, и как понимание и непонимание могут быть одновременно и правильными, и неправильными. Понимать современное искусство — это значит его «правильно не понимать» в каком-то смысле.
Предполагалось на открытие пригласить одновременно и профессиональную публику, то есть художников, кураторов, коллекционеров и так далее, и слепых. И ясно, что вся профессиональная публика может понять весь контекст, все игры с означающим, означаемым, с образом абстрактных картин, игры с понятностью и непонятностью и так далее. Единственное, что они не могут, — прочесть этот текст и понять, что на этих картинках. Слепые же могут прочесть эти тексты, но совершенно не могут понять контекста, потому что просто они нечасто ходят на выставки современного искусства. И каждая из этих групп будет чувствовать, что она чего-то важного не понимает, и завидовать друг другу.
То есть, собственно, вот это непонимание, взаимное непонимание и было тем результатом, которого я добивался, потому что в современном искусстве непонимание не менее важно, чем понимание, и как понимание и непонимание могут быть одновременно и правильными, и неправильными. Понимать современное искусство — это значит его «правильно не понимать» в каком-то смысле.
Вот другая история. Это был проект, 1996 год. Меня пригласили в город Росток на Биеннале. Я придумал, что буду не участником биеннале, а сделаю свою выставку, свою воображаемую выставку, в том же помещении, на тех же ресурсах. Поэтому по всему городу были развешаны плакаты моей выставки «Neue Entartete Kunst» («Новое дегенеративное искусство»), в журналах была реклама, в газетах, если я правильно помню, на трамваях не получилось, но я пытался.
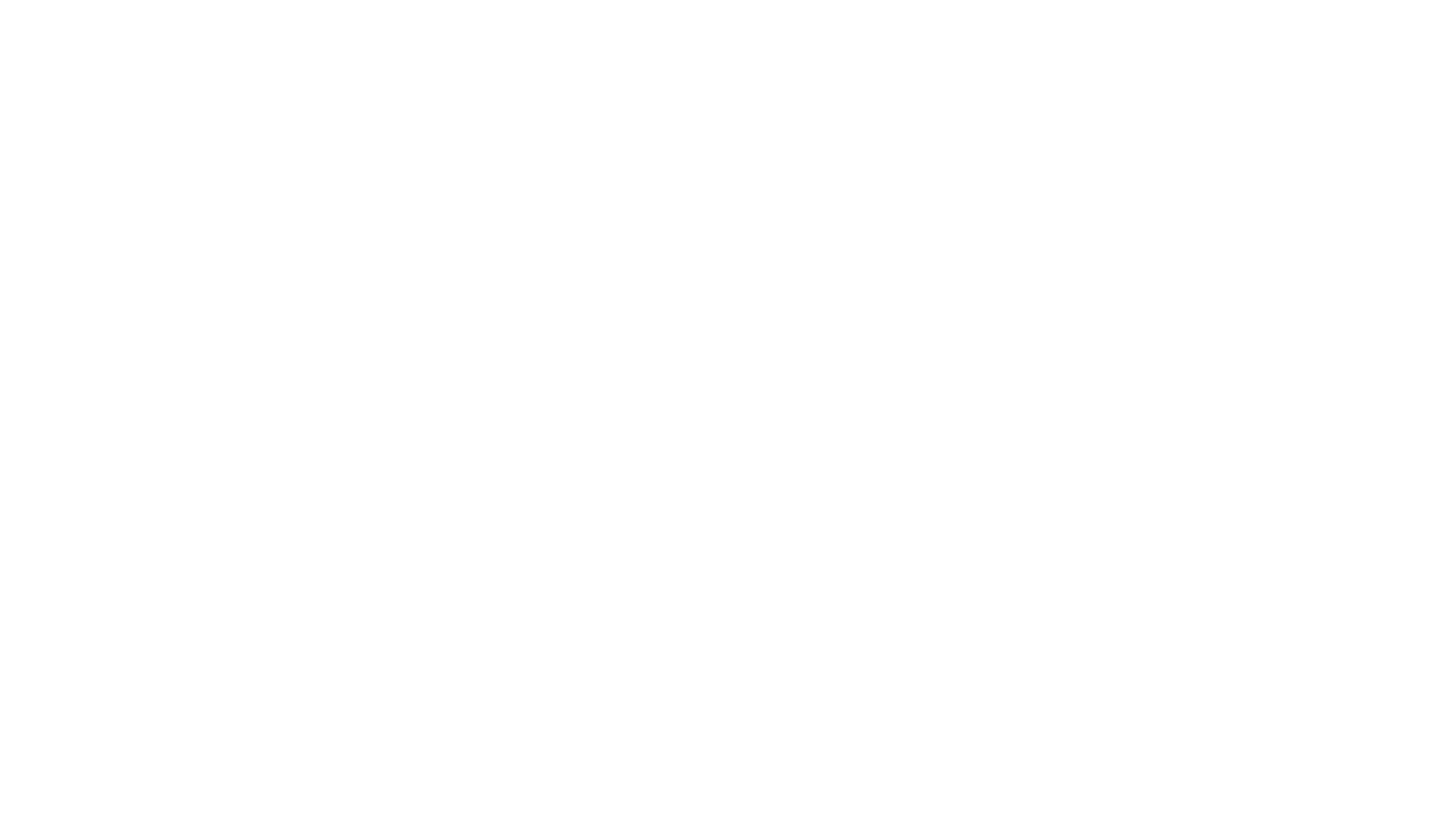
Если вы знаете, «Entartete Kunst» — это выставка дегенеративного искусства, которую нацисты устроили в Мюнхене в 1937 году, потому что нацисты, как и коммунисты, тоже боролись с современным искусством, с модернизмом, и они устроили выставку под таким названием, в которой в последний раз были показаны, перед тем, как быть уничтоженными, довольно важные, известные произведения Пикассо, Шагала, многих немецких художников, с разными уничижительными подписями.
Представить выставку такого рода в современной Германии совершенно невозможно. Почему? Потому что вот эта прибавка «neue» (новое), человек, который знает эту историю, не мог понять, что значит новое дегенеративное искусство. Это опять нацистская выставка? Да вроде нет, в 1996 году это невозможно. Это выставка историческая, реконструкция? Такие выставки бывают, но тогда бы она по-другому называлась. Это выставка какая-то антифашистская? Тоже почему она так странно называется? В общем, совершенно непонятно, невозможно представить себе выставку с таким названием.
При этом, если ты все время натыкаешься на эти плакаты, у тебя в голове все время что-то вертится. Ты пытаешься представить себе выставку, что бы могло быть на этой выставке. В конце концов на следующий день ты приходишь к зданию выставочного зала и видишь огромный транспарант, на котором написано «Новое дегенеративное искусство», причем тем же шрифтом, как было на транспарантах вот этой выставки 1937 года. И только подойдя совсем близко, там видите, внизу есть маленькая строчка. Вблизи видно, что написано: «Это не о том, о чем вы думаете».
То есть даже если вам удалось составить себе какое-то представление об этой вот выставке, на которую вы пришли, вам сообщается, что это не то. Вся работа вот эта по воображению, вся работа воображения все равно проделана. И опять, искусство рождается в наших головах, в нашем воображении, а то, что мы видим на стенах, в интернете, в книжках и так далее, — это только такие триггеры, которые включают это наше воображение.
Представить выставку такого рода в современной Германии совершенно невозможно. Почему? Потому что вот эта прибавка «neue» (новое), человек, который знает эту историю, не мог понять, что значит новое дегенеративное искусство. Это опять нацистская выставка? Да вроде нет, в 1996 году это невозможно. Это выставка историческая, реконструкция? Такие выставки бывают, но тогда бы она по-другому называлась. Это выставка какая-то антифашистская? Тоже почему она так странно называется? В общем, совершенно непонятно, невозможно представить себе выставку с таким названием.
При этом, если ты все время натыкаешься на эти плакаты, у тебя в голове все время что-то вертится. Ты пытаешься представить себе выставку, что бы могло быть на этой выставке. В конце концов на следующий день ты приходишь к зданию выставочного зала и видишь огромный транспарант, на котором написано «Новое дегенеративное искусство», причем тем же шрифтом, как было на транспарантах вот этой выставки 1937 года. И только подойдя совсем близко, там видите, внизу есть маленькая строчка. Вблизи видно, что написано: «Это не о том, о чем вы думаете».
То есть даже если вам удалось составить себе какое-то представление об этой вот выставке, на которую вы пришли, вам сообщается, что это не то. Вся работа вот эта по воображению, вся работа воображения все равно проделана. И опять, искусство рождается в наших головах, в нашем воображении, а то, что мы видим на стенах, в интернете, в книжках и так далее, — это только такие триггеры, которые включают это наше воображение.
«Это не о том, о чем вы думаете»
Еще немножко практически на ту же тему. Это указатель направления и расстояния до крупнейших музеев мира. Первый из них был установлен в Черногории в городе Цетинье. Это довольно маленький город, там 10 тысяч населения, и никакого искусства там не водится. Представляете, выходит утром человек на главную площадь (он действительно до сих пор там стоит на главной площади) и видит, что ему напоминают, что где-то далеко есть Лувр, или «Джоконда», или «Брак в Кане Галилейской», и он их, может быть, даже никогда и не увидит, потому что опять же искусство все время где-то не с нами, не здесь. А вот есть такая ностальгия по искусству. Вот эту ностальгию я пытаюсь спровоцировать. Второй указатель — это в Перми, но я там не знаю, стоит он до сих пор или нет.
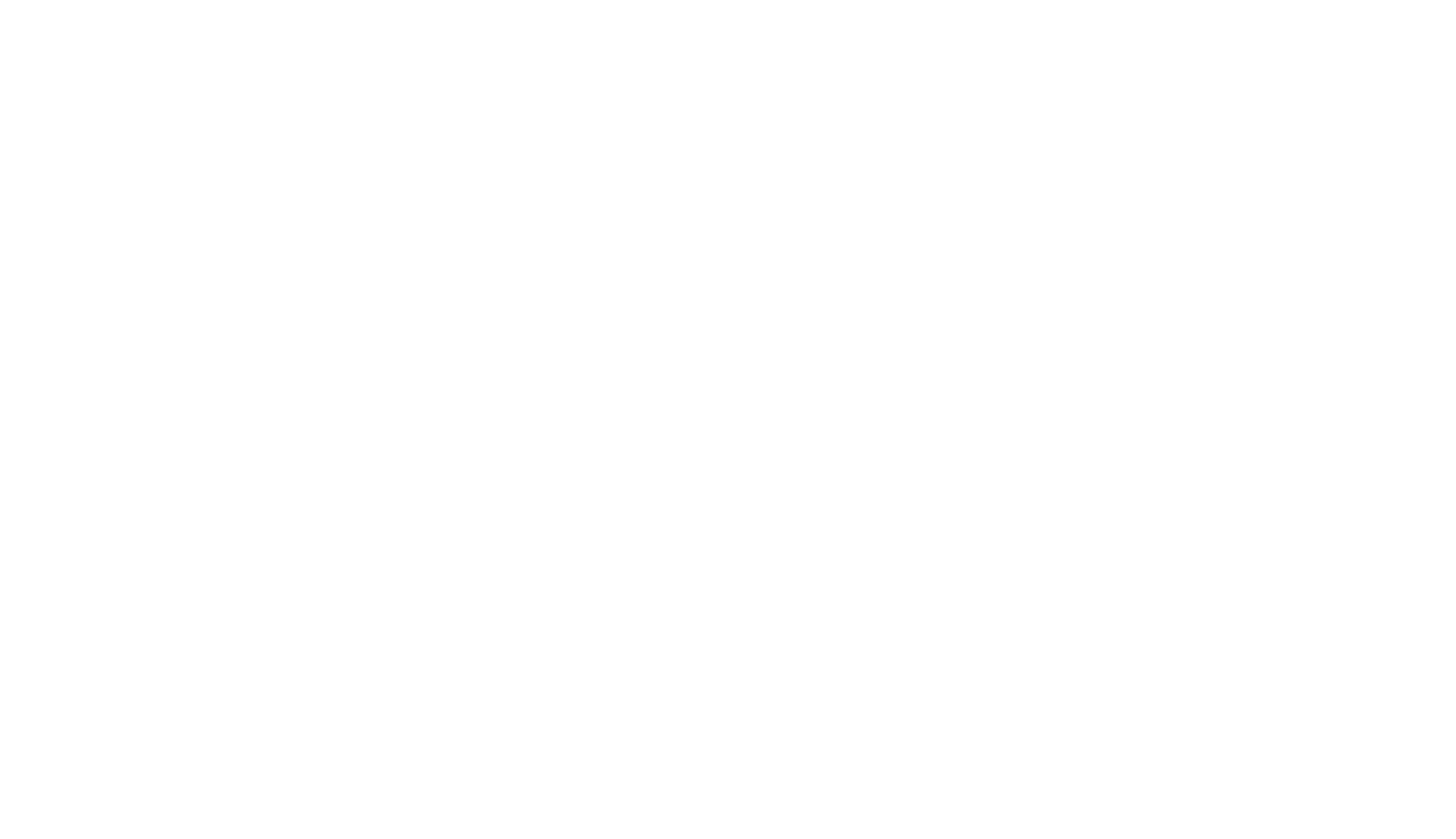
Одним из источников знаний в Советском Союзе о современном искусстве были даже карикатуры
Это то, о чем я говорил. Одним из источников знаний о модернизме, о современном искусстве были даже карикатуры. В советское время издавался журнал «Крокодил», сатирический журнал, безумным тиражом, 15 миллионов, 20, то есть практически был в каждом доме, и посвящен был разным недостаткам, которые критиковались, воровство в магазинах или что-то такое. Но иногда, и даже довольно часто, там были карикатуры на загнивающий Запад, потому что на Западе дошли до того, что рисуют абстрактные картины ногами, или что-то в таком духе.
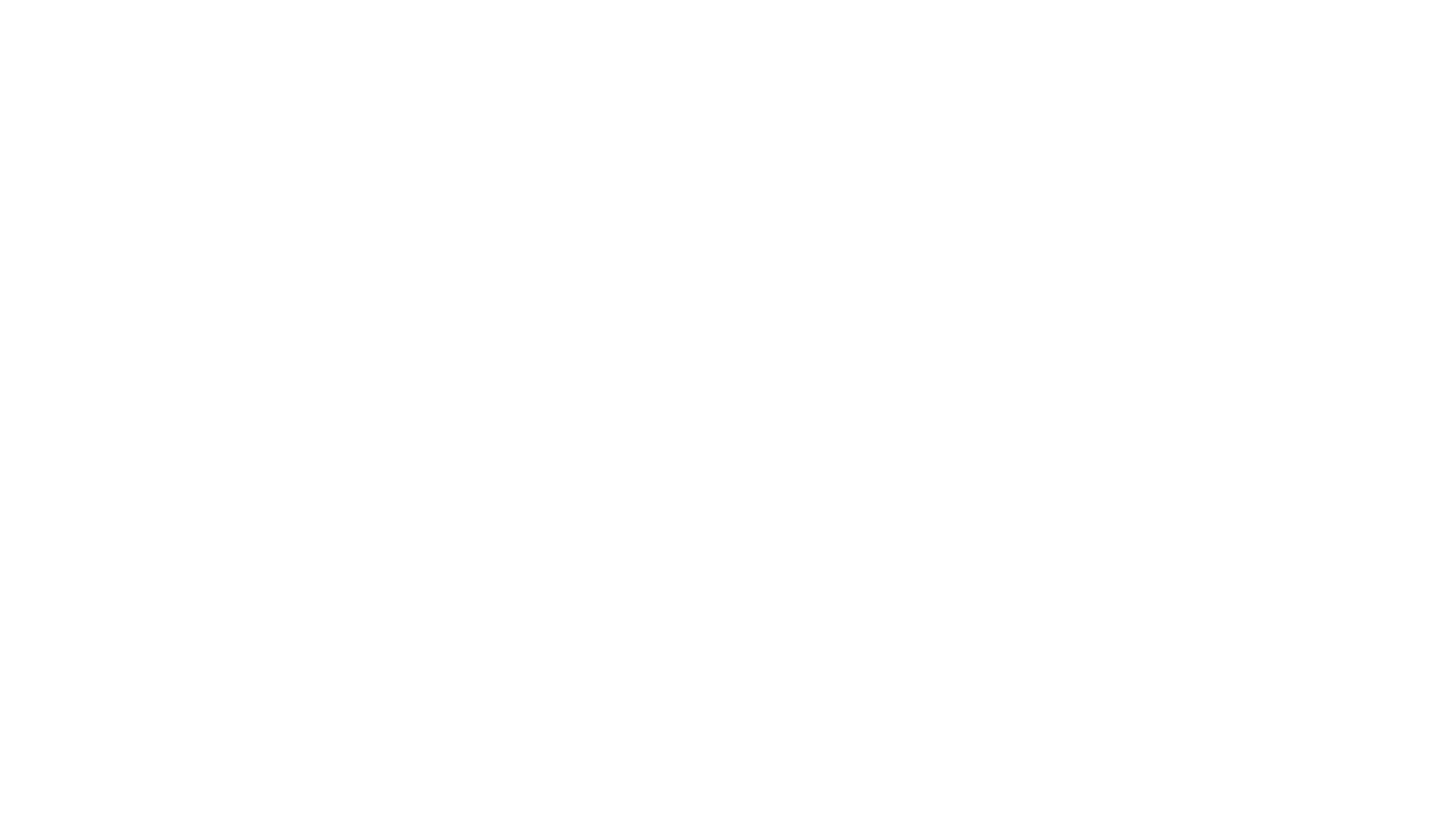
Это было довольно странно, потому что, скажем, в маленьком городке в провинции, где и реалистических-то картин не видели, не то что абстрактных, туда приходит журнал с карикатурами на какое-то неведомое абстрактное искусство. Более того, сами художники, которые рисовали эти карикатуры, они тоже же ведь жили за железным занавесом и никаких абстрактных картин не видели. В музеях их не выставляли. Следовательно, им надо было сначала придумать это, по каким-то слухам или доходящим сведениям придумать это современное искусство, потом нарисовать на него карикатуру, а потом читатели этого журнала, которые вообще об этом никогда не слышали, эти карикатуры пытались каким-то образом понять. Это довольно странная история, которая меня всегда очень поражала.
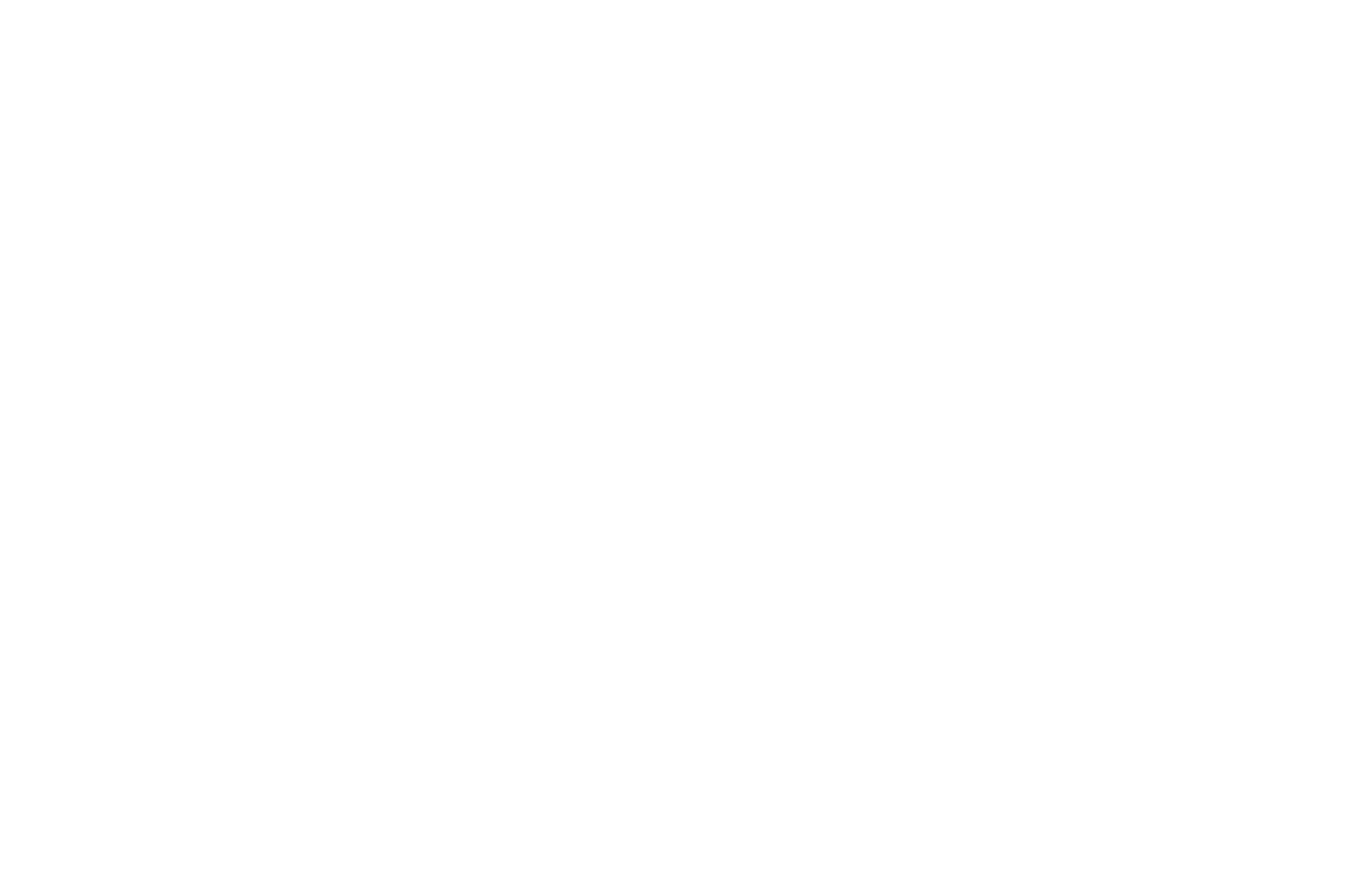
И, собственно, мои работы — это перенесенные на холст и увеличенные карикатуры. Это довольно большие картины, метра по два, которые являются просто увеличенными изображениями этих карикатур. Они так и называются: «Изображение карикатуры Кукрыниксов из журнала „Крокодил", номер такой-то, год такой-то».
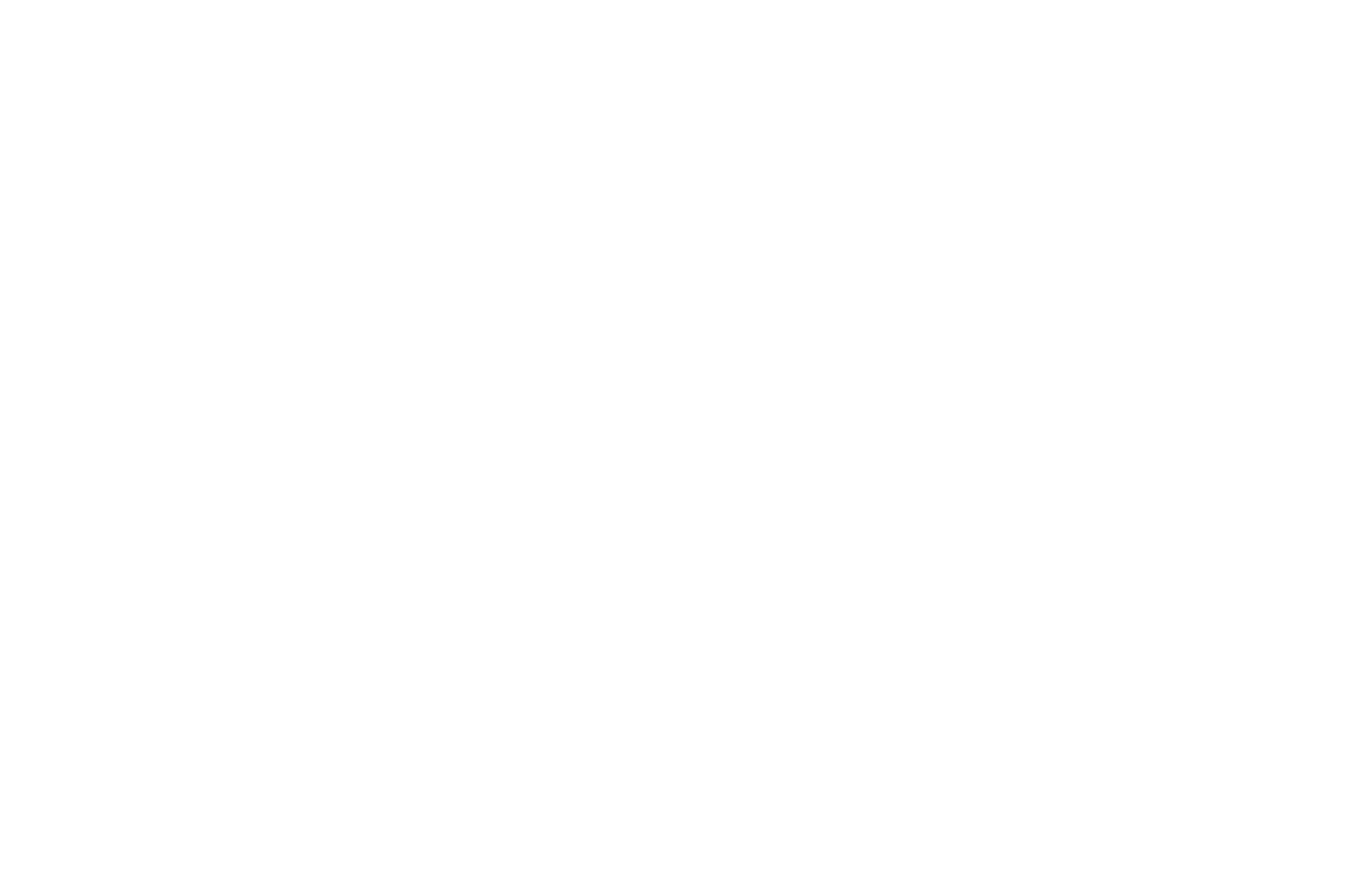
Причем там тоже еще интересная история, потому что если можно считать соцреализм одним из модернистских течений на подобие сюрреализма и можно себе представить историю искусства XX века как борьбу различных течений, так вот, соцреализм — это было единственное течение, в котором специально были выделены люди для борьбы с другими течениями. То есть мы же не знаем мистических карикатур на импрессионизм или что-то такое. А вот есть соцреалистические карикатуры на все другие течения. Это тоже довольно странный ход, который мне кажется уникальным и за который я зацепился.
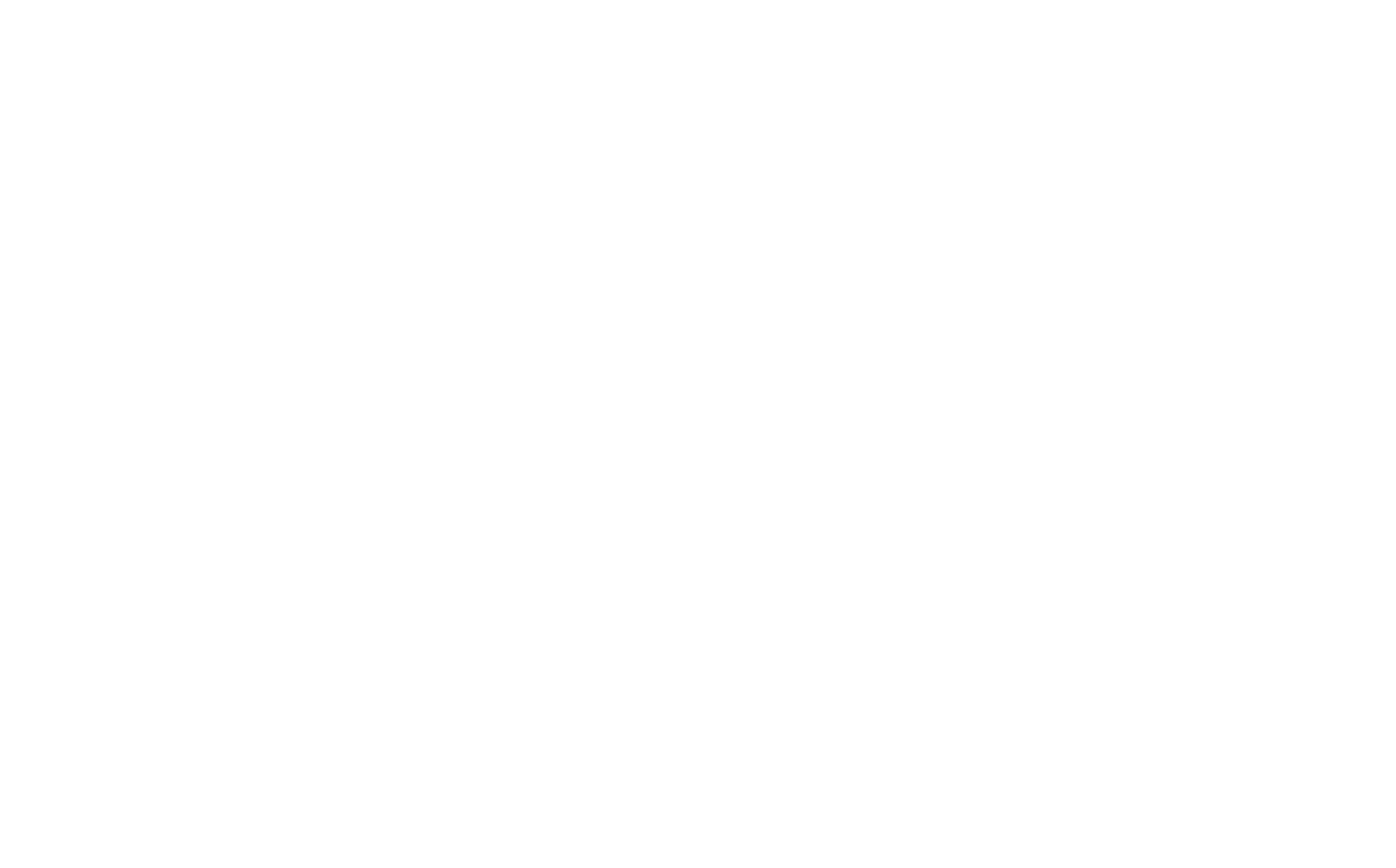
Насколько искусство действительно визуальное, насколько важно увидеть произведения искусства или, может быть, достаточно о них услышать
Это следующий проект. Я пытался опять стать настоящим художником, начать с автопортретов. Я садился перед зеркалом, завязывал себе глаза и пытался нарисовать автопортрет. Результат получался не очень похожим, хотя, что очень важно, можно догадаться, что это автопортрет, только непонятно, чей. Такие размытые фигуры. Понятно, что вот это рука, человек смотрит на нас, что он рисует. Это стандартная схема, как выглядит автопортрет, но непонятно, чей. В общем, я нашел такой простой способ создавать модернистские автопортреты. Главное — завязать глаза. Потому что вообще-то, во всяком случае в английском языке, искусство называется visual arts, визуальное искусство. Меня всегда интересовало, насколько оно действительно визуальное, насколько важно увидеть произведения искусства или, может быть, было достаточно о них услышать или достаточно самому рассказать, вместо того, чтобы рисовать, или достаточно распространения каких-то слухов.
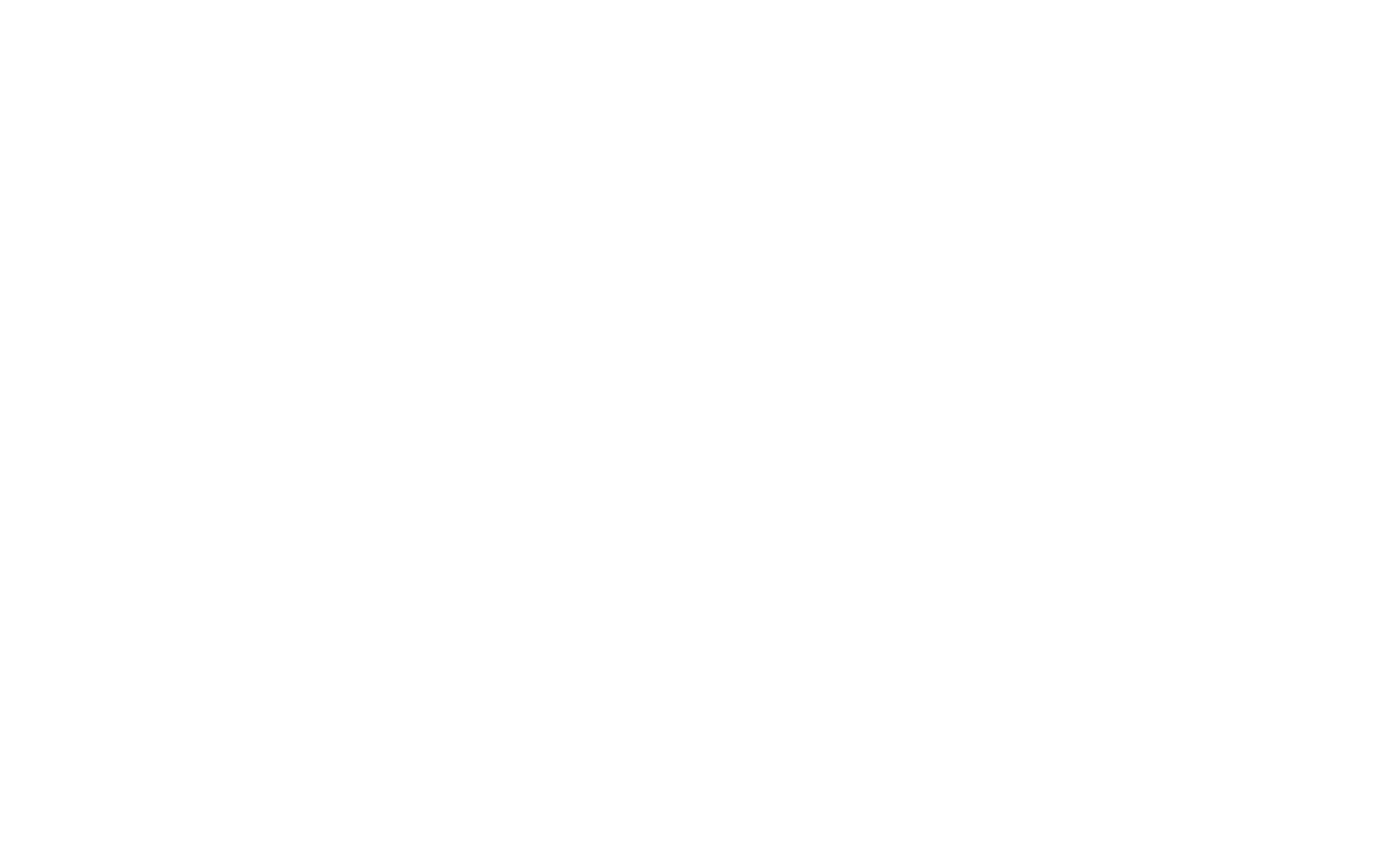
Это другая попытка. Где-то с 1998 года я организовываю в разных музеях такие перформансы. Это экскурсии, где приглашенным участникам завязывают глаза, и они, взявшись за руки, примерно час ходят за экскурсоводом (стандартное время экскурсии), который им рассказывает: посмотрите направо, посмотрите налево, обратите внимание на колорит этой картины, выражение лица Аленушки на картине Васнецова и так далее. И вот эти участники экскурсии пытаются, если они знают, если это известные картины, они пытаются их вспомнить, если это неизвестные картины, для них неизвестные, то они пытаются по описанию их вообразить, одновременно пытаются не споткнуться, не потеряться, не отстать, пытаются догадаться, кто их держит за руку, чей голос они слышат рядом. Есть там одновременно еще и отвлекающий момент, который мешает сосредоточению, после чего снимают повязки, и я их всегда прошу еще написать свои впечатления об этом, всех участников. Не все, конечно, пишут, но я собираю коллекцию этих впечатлений. Довольно забавно, потому что в разных странах люди реагируют и обращают внимание на разное. Это в берлинской галерее, в Музее современного искусства, в Музее Людвига в Кельне и самарской художественной галерее. Еще я делал в Лувре, в Пушкинском музее эти экскурсии и так далее.
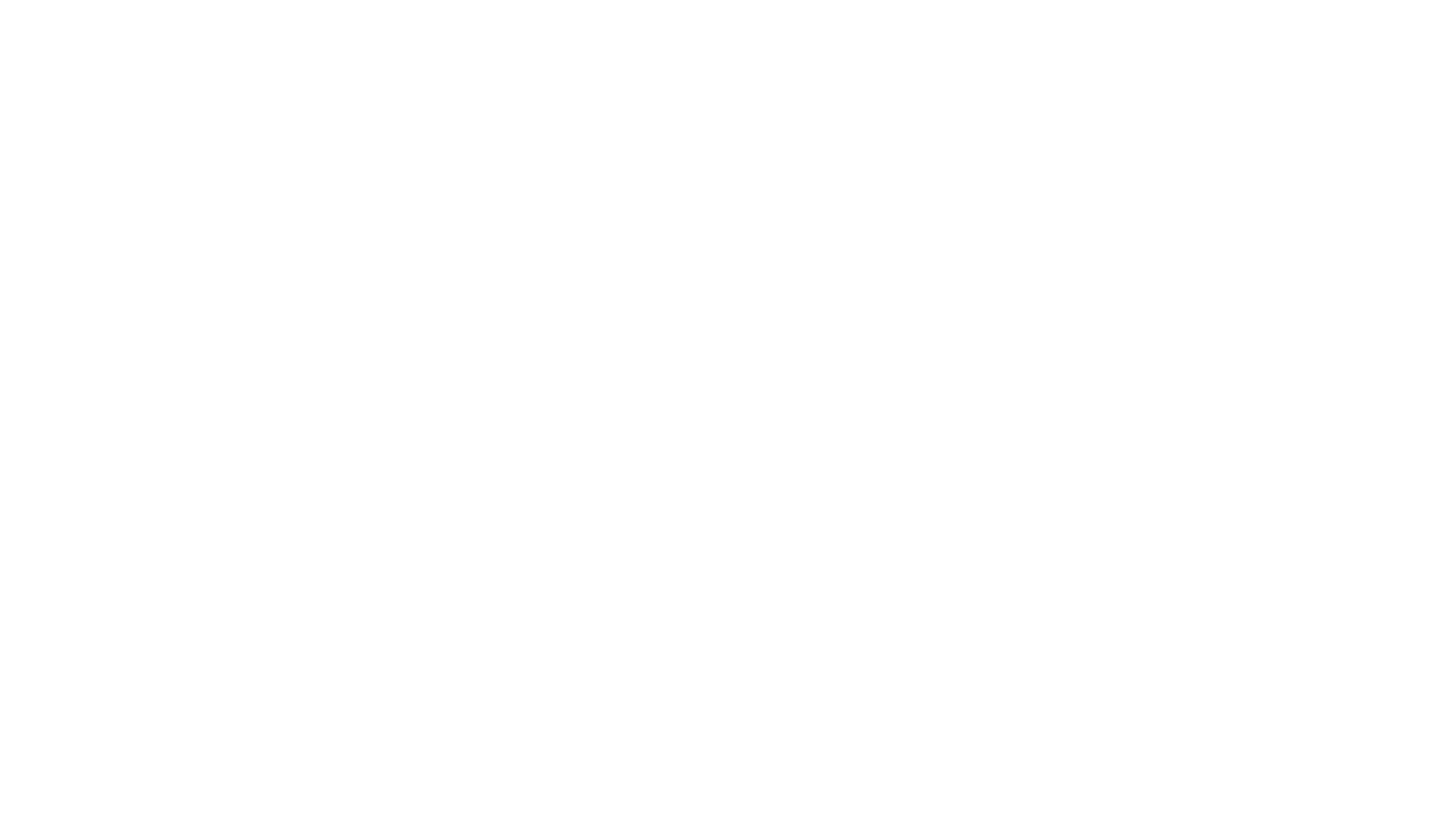
А это попытка писать абстрактные картины. Дело в том, что в России, в общем-то, не было такой высокой абстракции. Был супрематизм в начале XX века, после чего большой перерыв, и вот такого явления, которое на самом деле лежит в основе, является базовым для современного искусства западного, а это абстрактный экспрессионизм, у нас не было. Поэтому наше современное искусство немножко без базы, что ли, потому что любой западный художник, когда он мечтает о том, что его работы будут выставляться в музее, представляет, что они будут на фоне работ Ротко, Поллока или Барнетта Ньюмана. Это то, на чем все основано. У нас этого не было.
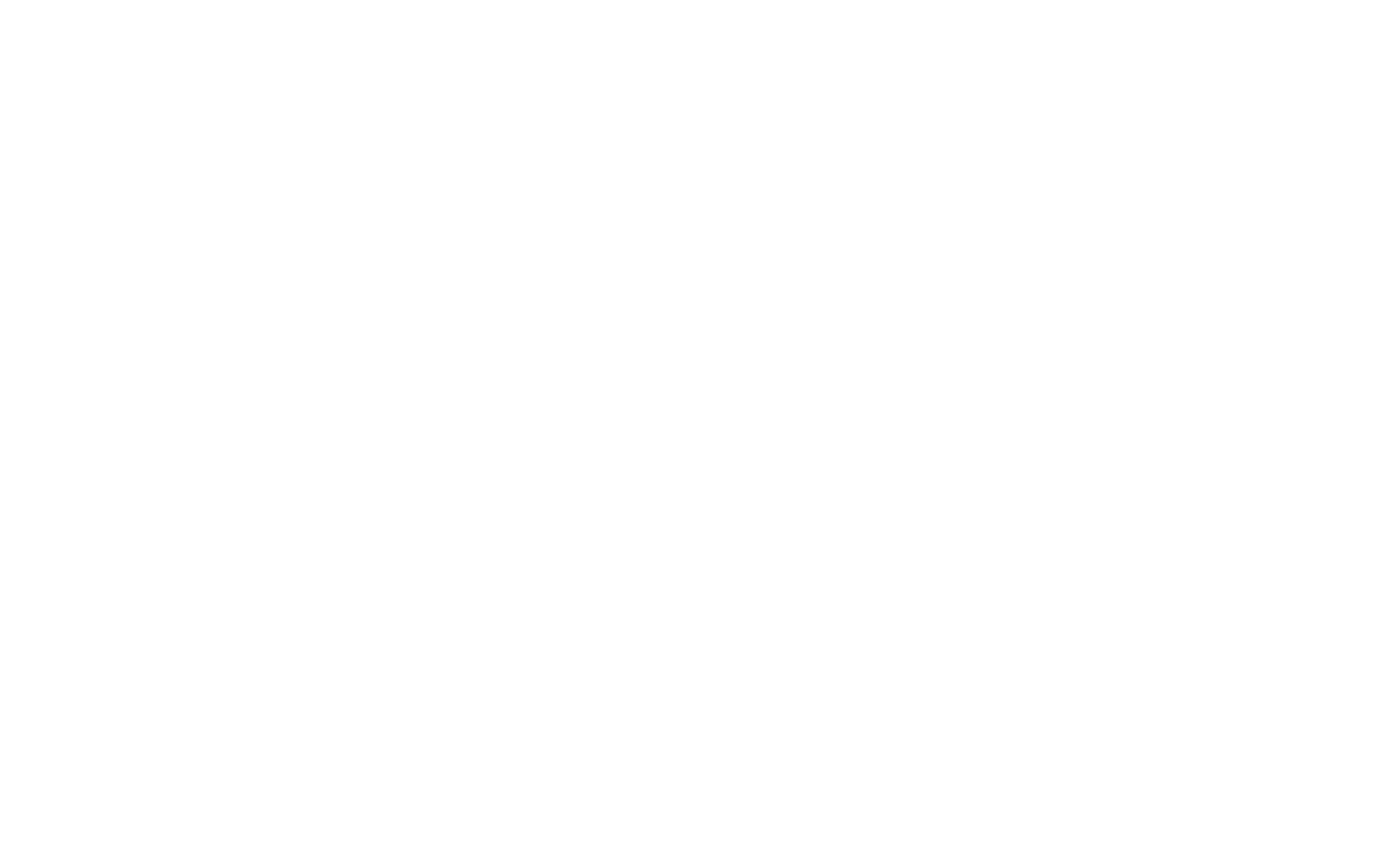
И я попытался написать эти абстрактные картины. Русскому искусству, в отличие от западного, обычно инкриминируется литературоцентричность. Всегда, начиная от Передвижников до Калмыкова, всегда говорят, что все вокруг литература, рассказ, все такое. Вот я попытался эту литературу переплавить, преобразить в абстрактную живопись.
Эти картины — серия называется «Мои любимые книги». Я сжигал книги по отдельности и пепел этих книг использовал как пигмент в изготовлении краски для каждой отдельной картины, и каждая отдельная картина — это перенесенная на холст книга. Тут есть и «Евгений Онегин», естественно, и «Неведомый шедевр» Бальзака, и Рильке, по-моему, и Лермонтов — в общем, хорошие книжки. И вы видите, что в зависимости от содержания книг и цвет меняется, и фактура, и некоторые книжки мрачные, черные такие, некоторые веселые, более светлые. Такая вот попытка заниматься абстракционизмом.
Эти картины — серия называется «Мои любимые книги». Я сжигал книги по отдельности и пепел этих книг использовал как пигмент в изготовлении краски для каждой отдельной картины, и каждая отдельная картина — это перенесенная на холст книга. Тут есть и «Евгений Онегин», естественно, и «Неведомый шедевр» Бальзака, и Рильке, по-моему, и Лермонтов — в общем, хорошие книжки. И вы видите, что в зависимости от содержания книг и цвет меняется, и фактура, и некоторые книжки мрачные, черные такие, некоторые веселые, более светлые. Такая вот попытка заниматься абстракционизмом.
Это следующий проект. Называется «Искусство делает свободным». Если вы знаете, собственно, даже в музее в этом есть такая наверняка фотография, примерно так, такой же формы была надпись над воротами Освенцима, только там было написано «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным»). Вообще-то впервые эта надпись появилась опять же на нашей родине, на Соловках, на русском языке тоже есть надпись «Труд делает свободным».
Я немножко изменил эту надпись, сделал «Kunst macht frei» («Искусство делает свободным»), потому что почему-то считается, что искусство — это область свободы, что художник и сам свободен, и для других является примером свободного человека: все, что хочет, то и рисует, все, что хочет, то и делает, хочет — писсуар принесет в музей, что хочет.
Я немножко изменил эту надпись, сделал «Kunst macht frei» («Искусство делает свободным»), потому что почему-то считается, что искусство — это область свободы, что художник и сам свободен, и для других является примером свободного человека: все, что хочет, то и рисует, все, что хочет, то и делает, хочет — писсуар принесет в музей, что хочет.
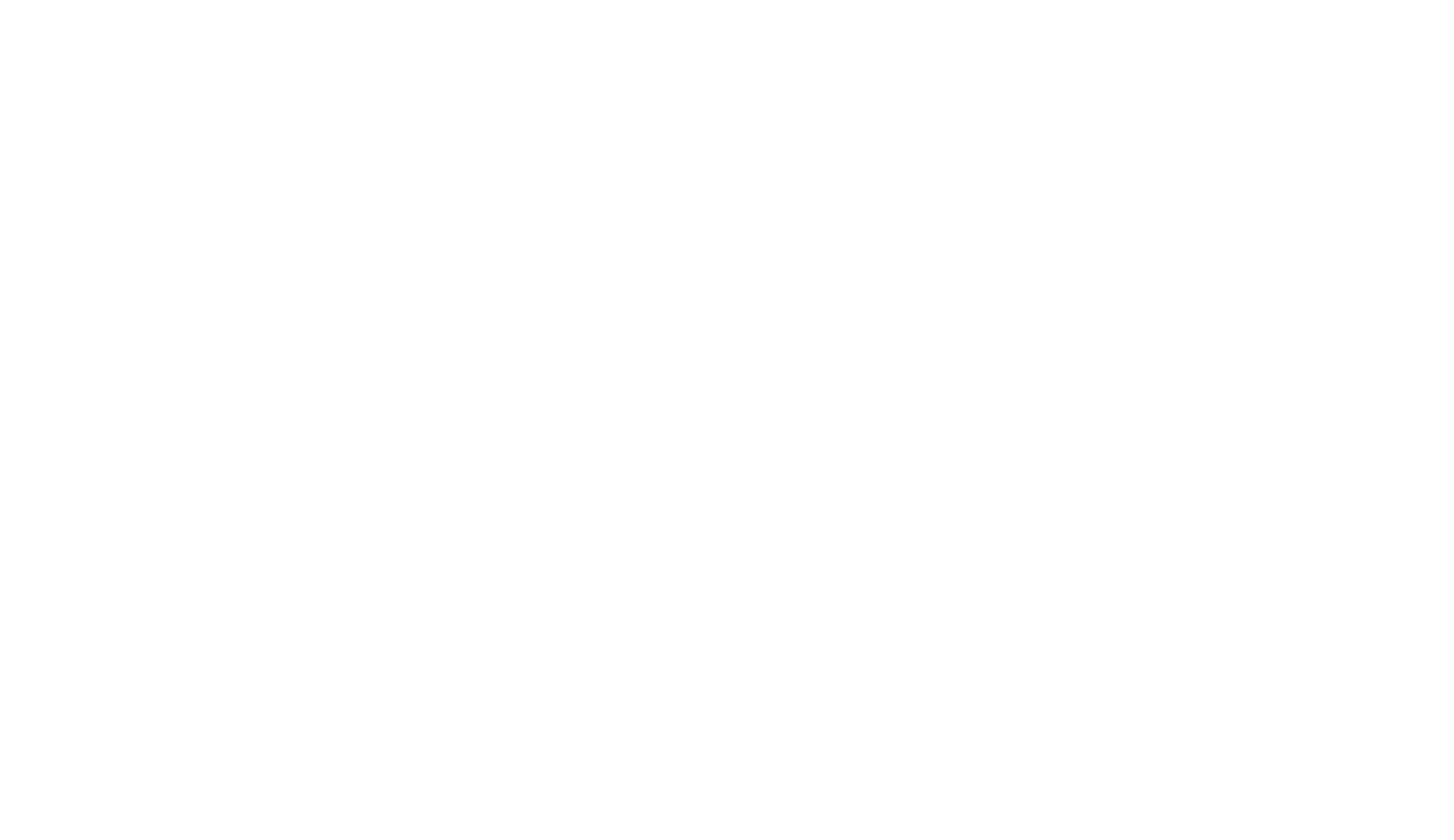
Художник совсем не делает все, что хочет. Искусство — область довольно жестких ограничений и законов. Но проблема в том, что эти законы почти невозможно сформулировать
На самом деле я думаю, что художник совсем не делает все, что он хочет. Искусство — область довольно жестких ограничений и законов. Но проблема в том, что эти законы почти невозможно сформулировать. То есть я не могу сказать, что чтобы быть художником, делайте то-то и то-то, а этого не делайте. Нет, это так не работает. Если вы что-то делаете не так, ваши произведения не станут искусством. Это довольно жесткая область. Это тот концлагерь, в который мы радостно входим, вот в эти ворота.
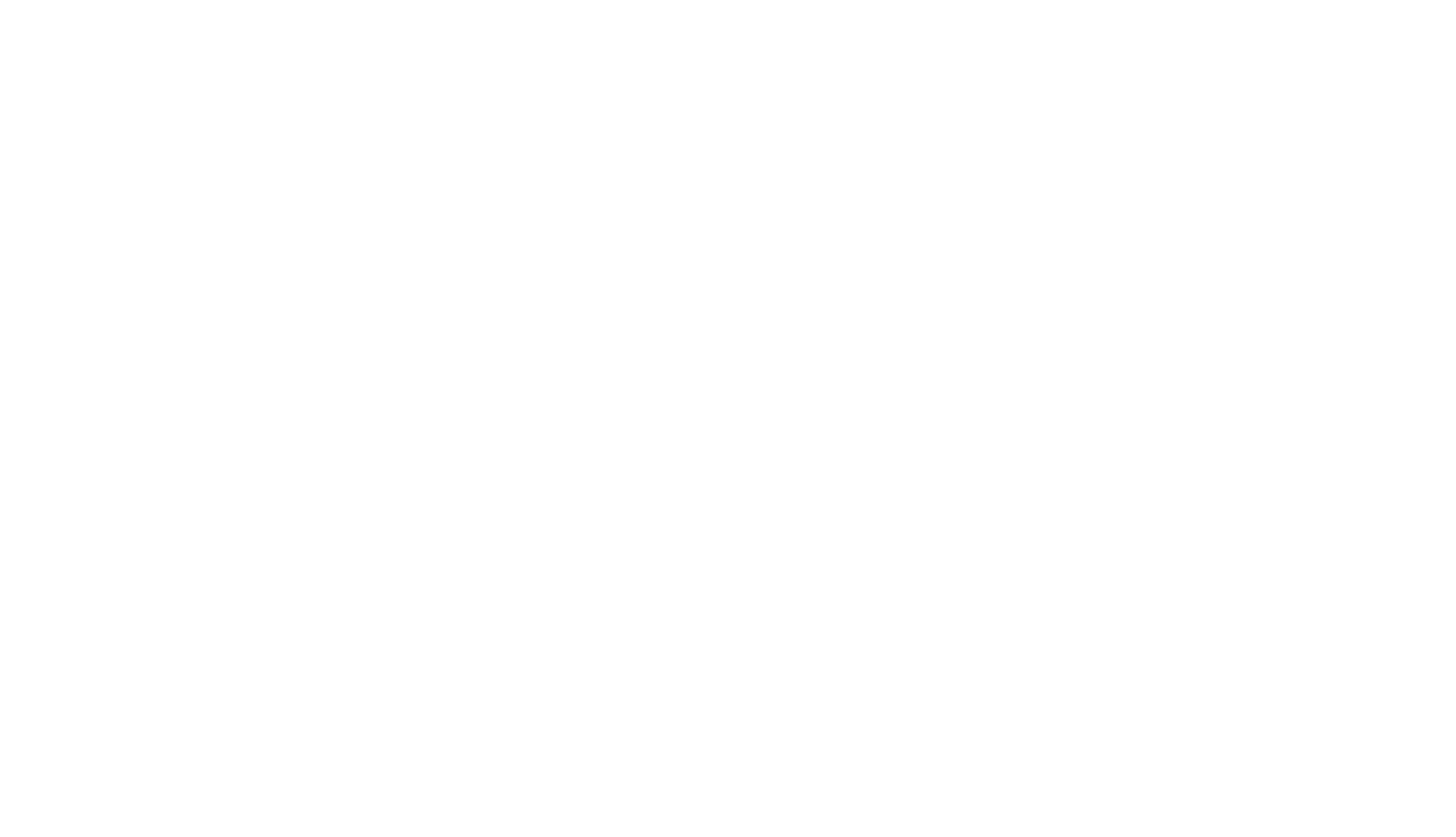
Это более жизнерадостная картинка. Это тоже про реальность и искажающую силу искусства, волшебную силу искусства. Я не знаю, как сейчас, но раньше во всех парках были комнаты смеха с кривыми зеркалами, и при этом можно было зайти и посмеяться, как ты искажен в этом зеркале. И я соединил эти кривые зеркала с балетным классом.
Вы видите, я сделал, я не знаю, как называются эти поручни, станки балетные, но с кривыми зеркалами, и на выставке, где они были впервые показаны, там даже так удачно было, что надо было пройти в выставочный зал через такой коридор, между двумя рядами балерин, которые делали свое упражнение, фактически задевая ногами зрителей, и вот в зеркалах в страшно искаженном виде отражались эти прекрасные балерины и немножко менее прекрасные зрители. Собственно, вот таким образом и получалось искусство, которое зачем-то искажает действительность.
Вы видите, я сделал, я не знаю, как называются эти поручни, станки балетные, но с кривыми зеркалами, и на выставке, где они были впервые показаны, там даже так удачно было, что надо было пройти в выставочный зал через такой коридор, между двумя рядами балерин, которые делали свое упражнение, фактически задевая ногами зрителей, и вот в зеркалах в страшно искаженном виде отражались эти прекрасные балерины и немножко менее прекрасные зрители. Собственно, вот таким образом и получалось искусство, которое зачем-то искажает действительность.
Вот это другая попытка прислониться к настоящему искусству. Один раз я пришел в Третьяковскую галерею и в своем любимом зале на двери дату поставил и отметил свой рост, знаете, как дети на день рождения на двери отмечают их рост. Я же вырос в этой Третьяковской галерее, наконец пришел и отметил там свой рост. К сожалению, его стерли прямо немедленно.
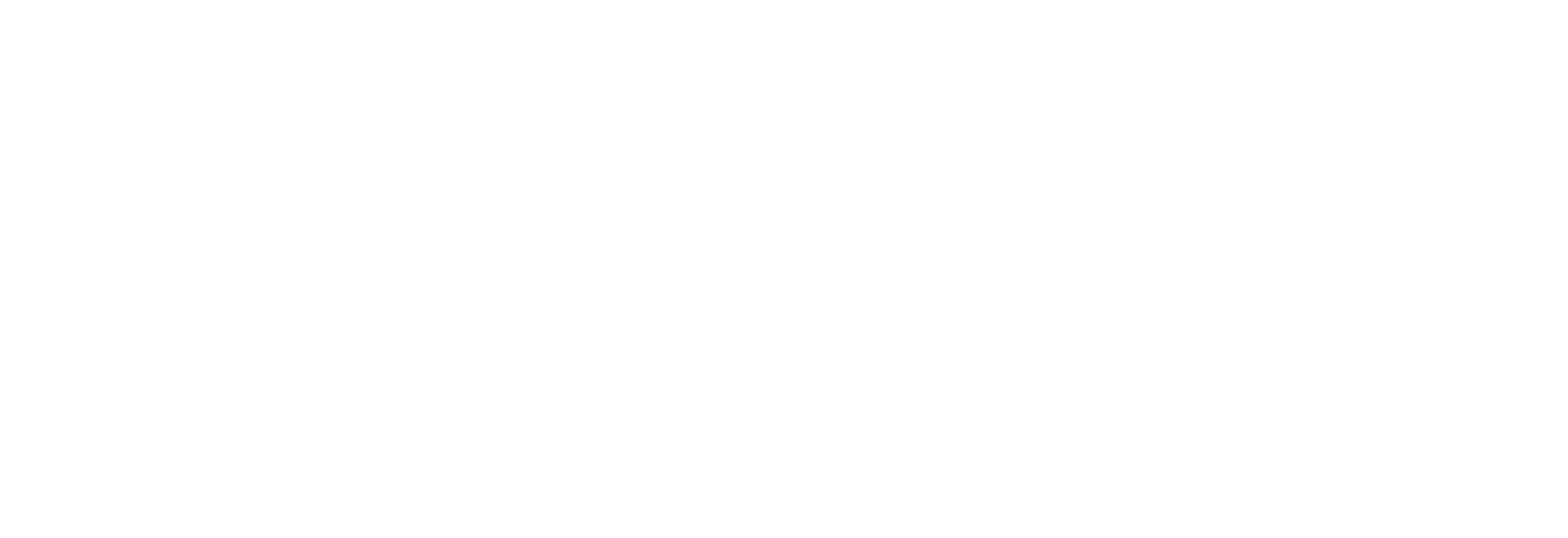
Это уже обращение к скульптуре. Называется проект «Хождение по музею, или скульптура». На выставке, где это было представлено, всем входящим предлагалось взять из ведра и положить в ботинок маленький мраморный камешек и уже ходить дальше по выставке с камнем в ботинке. Понятно, что это немножко отвлекает от того, зачем ты пришел, отвлекает от созерцания произведений искусства и одновременно напоминает, потому что каждый раз, как ты ощущаешь этот камешек в ботинке, ты ощущаешь раздражение, что он тебе мешает, и ты понимаешь, чему он мешает. Мешает тебе созерцать прекрасные произведения искусства. Такое вот амбивалентное немножко состояние.
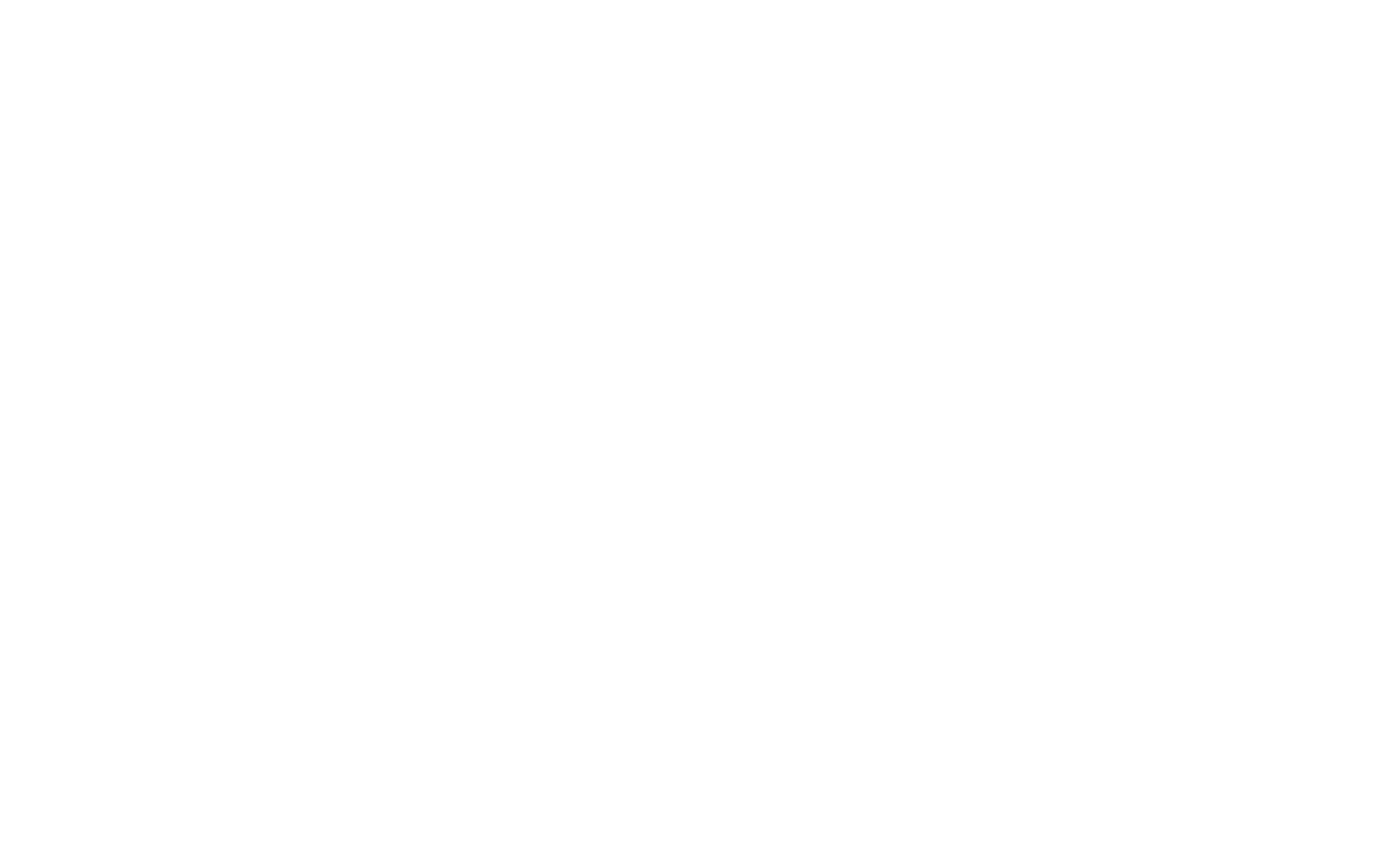
С другой стороны, если представить мысленным взором все эти камешки, передвигающиеся на толщину подошвы над полом выставочного зала, это такая странная подвижная мраморная скульптура, постоянно перемещающаяся по выставочному пространству, и так как некоторые забывали вынуть камешек, то иногда и уходящая на улицу. Такое вот процессуальное искусство.
И к тому же и сами зрители, вы видите, я фотографировал зрителей в момент, когда они кладут этот камешек, они сами застывают, как такие странные скульптуры барочные. Это в два ряда фотографии. Верхний — это в Москве, а нижний — в Милане.
И к тому же и сами зрители, вы видите, я фотографировал зрителей в момент, когда они кладут этот камешек, они сами застывают, как такие странные скульптуры барочные. Это в два ряда фотографии. Верхний — это в Москве, а нижний — в Милане.
Это другая работа, в традиционном жанре memento mori (помни о смерти). В 2009 году, когда у нас должна была состояться в Москве очередная биеннале, я вдруг подумал, что у нашей биеннале нет премии, а вообще-то полагается. У всех фестивалей биеннале всегда есть какая-то премия. Я предложил такой формат премии, что художники, участники биеннале должны были сами выбирать тайным голосованием из своих рядов лучшего, и он становился лауреатом. Победитель получал вот что. Администрация биеннале брала на себя обязательства оплатить его похороны в случае, если он умрет в течение двух лет до следующей биеннале. Я считаю, что это очень гуманная вещь, потому что в течение этих двух лет кураторы биеннале абсолютно искренне желали ему здоровья, счастья и всех благ. Победил бельгийский художник Ромуальд Азуме. Он, слава богу, не воспользовался этим. Получил только диплом. Вернее, его наследники не получили денег на похороны, но он получил диплом, и, насколько я знаю, он гордится этим, потому что на его сайте среди полученных других премий есть и эта.
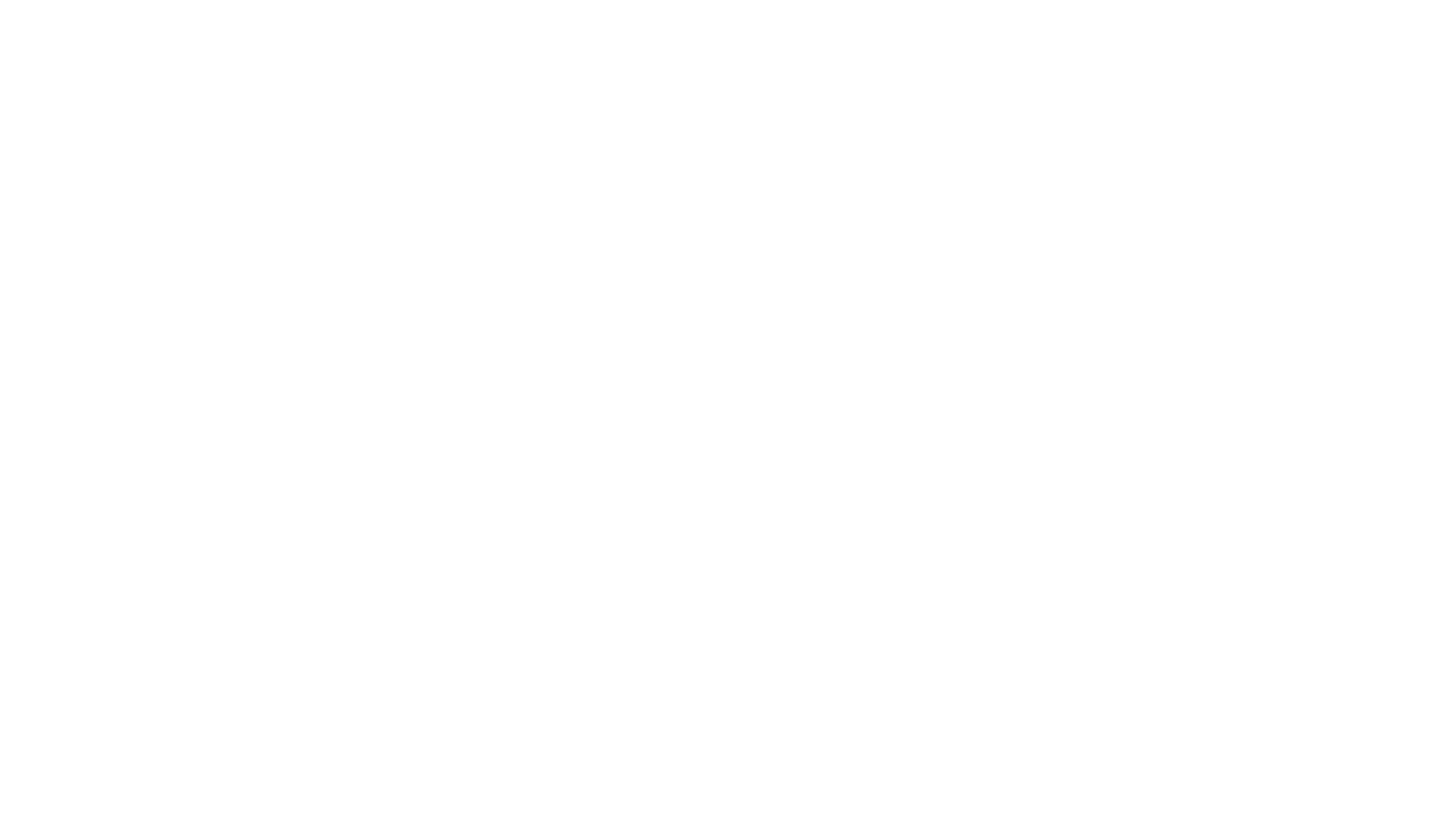
Я бы хотел, чтобы зрители сами задавали дальнейшие вопросы уже мне
Это опрос. Называется «Московский выбор». Если вы знаете, у американского художника Ханса Хааке есть такая работа, где зрители должны были голосовать, должны были опустить вправо или влево бюллетень на такой вопрос: «Будете ли вы на следующих выборах голосовать за вице-губернатора Рокфеллера из-за того, что он не осудил войну во Вьетнаме». Это работа 1971 года, была страшно скандальная. Ханса Хааке 30 лет в этом музее потом не выставляли.
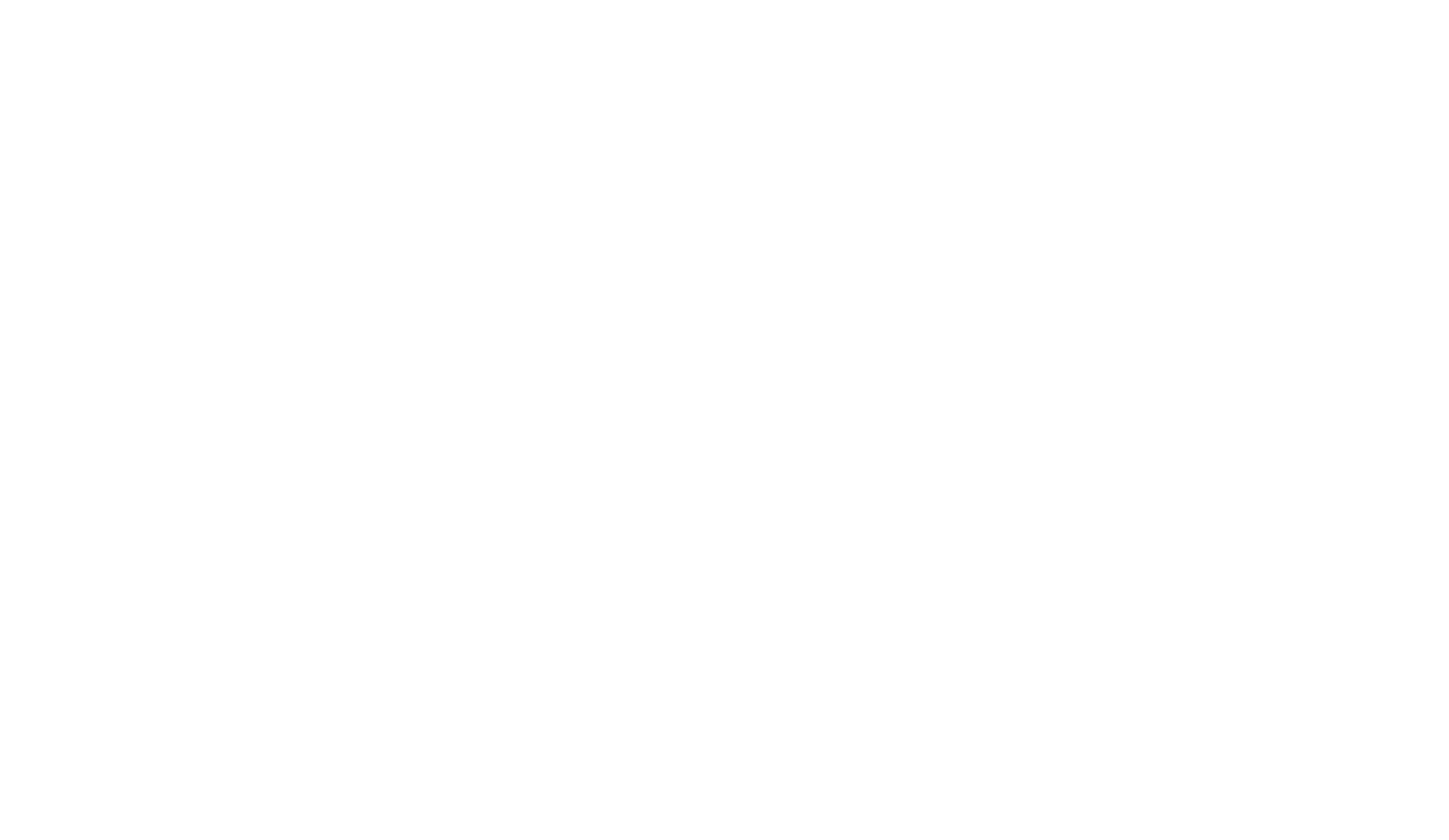
И я подумал, почему она мне нравится сейчас, потому что уже никто не помнит вообще, когда была Вьетнамская война, кто такой тот самый Рокфеллер, не помнит точно никто. Но работа нравится. И я подумал, что это потому, что здесь смоделирована базовая ситуация на любой выставке, в любом музее. Каждый раз, когда мы стоим перед произведением искусства, мы делаем выбор, как минимум нравится, не нравится. И потому, что этот выбор смоделирован, именно поэтому эта работа до сих пор актуальна.
Я сформулировал восемь вопросов, на которые зрители должны были ответить, от политических до крайне абстрактных. Первый вопрос был такой: «Изменилось ли ваше отношение к современному русскому искусству из-за того, что никто из русских художников не протестовал против войны с Грузией?». Второй: «Влияет ли на качество современного русского искусства усиление цензуры и сама цензура?» Потом вопросы становились все более и более абстрактными. Последний вопрос был такой: «Действительно ли вы думаете, что-то, на что вы сейчас смотрите, является произведением искусства?».
Понятно, что, во-первых, эти вопросы не непосредственно политические, потому что даже этот вопрос про Грузию — это был вопрос про ваше отношение к современному русскому искусству, и ответить на него не так-то просто, потому что вы можете быть за или против этой войны, но не факт, что при этом изменилось ваше отношение к русскому искусству, и так далее и так далее. Люди застывали, и надо сказать, что во всех этих урнах было примерно поровну, то есть не было никогда бюллетеней с какой-то стороны больше, меньше. Или является ли то, на что вы смотрите, произведением искусства, на такой вопрос с ходу не ответишь.
Но я думаю, что я и не хотел, чтобы какие-то ответы получились. Я бы хотел, чтобы зрители сами задавали дальнейшие вопросы уже мне после того, как я покажу последнюю работу.
Я сформулировал восемь вопросов, на которые зрители должны были ответить, от политических до крайне абстрактных. Первый вопрос был такой: «Изменилось ли ваше отношение к современному русскому искусству из-за того, что никто из русских художников не протестовал против войны с Грузией?». Второй: «Влияет ли на качество современного русского искусства усиление цензуры и сама цензура?» Потом вопросы становились все более и более абстрактными. Последний вопрос был такой: «Действительно ли вы думаете, что-то, на что вы сейчас смотрите, является произведением искусства?».
Понятно, что, во-первых, эти вопросы не непосредственно политические, потому что даже этот вопрос про Грузию — это был вопрос про ваше отношение к современному русскому искусству, и ответить на него не так-то просто, потому что вы можете быть за или против этой войны, но не факт, что при этом изменилось ваше отношение к русскому искусству, и так далее и так далее. Люди застывали, и надо сказать, что во всех этих урнах было примерно поровну, то есть не было никогда бюллетеней с какой-то стороны больше, меньше. Или является ли то, на что вы смотрите, произведением искусства, на такой вопрос с ходу не ответишь.
Но я думаю, что я и не хотел, чтобы какие-то ответы получились. Я бы хотел, чтобы зрители сами задавали дальнейшие вопросы уже мне после того, как я покажу последнюю работу.
Это 2010 год, Лувр, если вы узнаете эту пирамиду в Лувре. В течение недели в октябре 2010 года по моей просьбе Лувр открывался на одну минуту раньше, чем обычно, то есть вместо 9 часов он открывался в 8 часов 59 минут. Таким образом, посетители Лувра получили на одну минуту больше великого искусства от меня, чем в обычные дни. Там была в это время выставка русского искусства. Я в ней участвовал и подарил таким образом всем туристам на одну минуту больше «Джоконды», Тициана, Боттичелли, чего там только нет. Вот такая вот история».
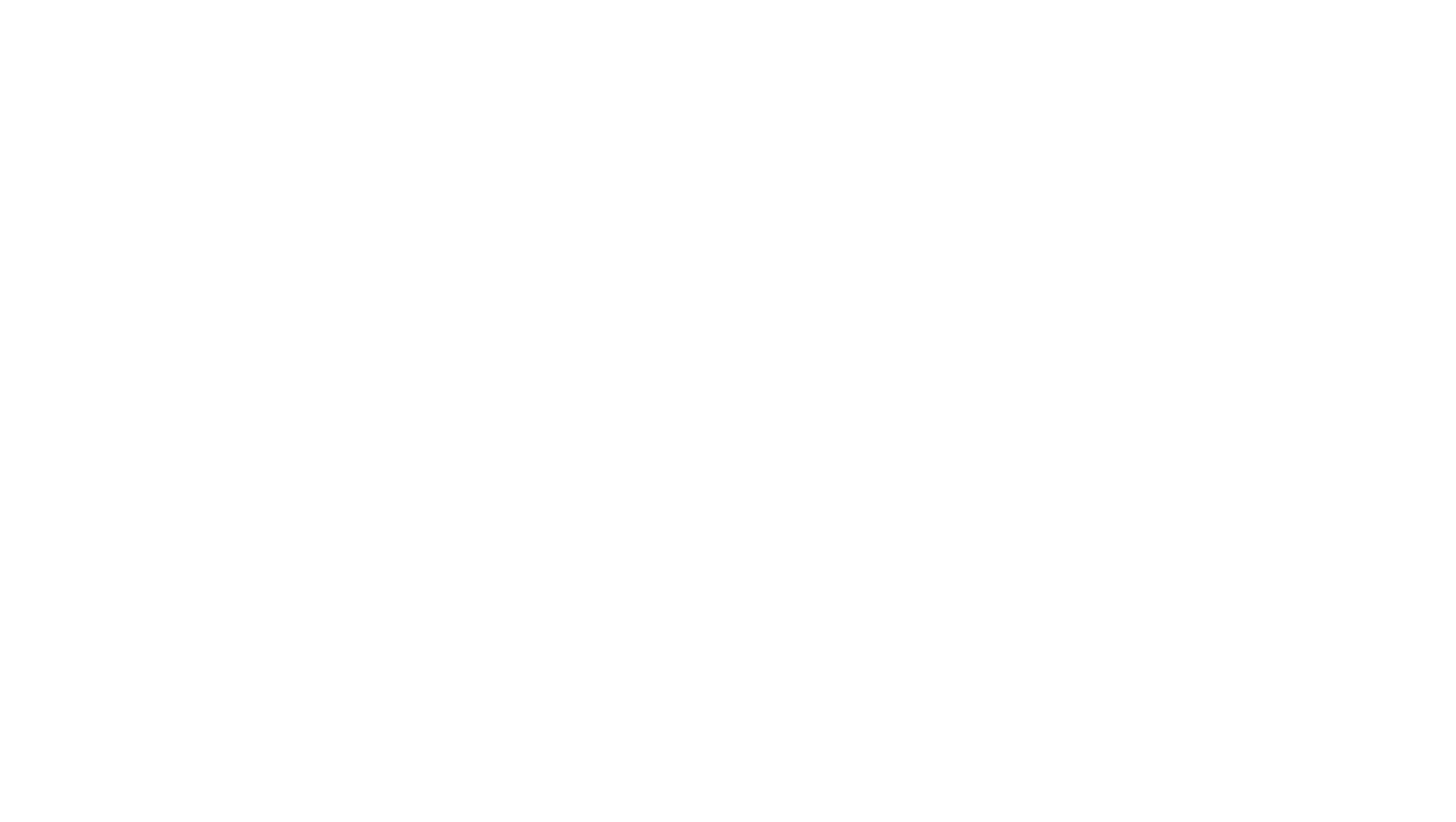
Хотите регулярно получать образовательные материалы «Среды обучения»? Подпишитесь на нашу рассылку! Отправляя свои контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
К ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ

